
Двое из Посмак-Пауля (Андрей Иванов-Смоленский)
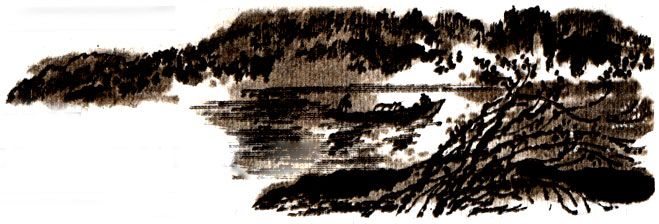
Двое из Посмак-Пауля
Васька проснулся затемно. Тяжело, с уханьем прихрапывал за стенкой тесть. Полежав минутку в тягучей дреме, Васька встал, подошел к кроватке дочери, осторожно поправил сползшее одеяльце.
- Собирать, что ль? - шепотом спросила из темноты Наталья.
- Пора. Толкни батю.
Одевшись, он вышел во двор. Ночь еще укрывала все. Под ногой хрустнул ледок. Васька поднял курчавую голову. Бледно-синие огоньки звезд брызнули в глаза. "Утренник будет", - подумал он и тут же уловил в груди знакомое, тревожно-азартное чувство приближения охоты.
Из-под крыльца вылез помятый Поль. Пружиня на вытянутых передних лапах, зевнул с тонким подвывом, размашисто замахал закрученным хвостом. Потрепав собаку по голове, Васька взял ведро и пошел к реке.
- Сапоги мои взглянь! - высунувшись в исподнем в дверь, крикнул вдогонку Савва Кириллыч. "Старый чертуха, склероз замучил", - усмехнулся впотьмах Васька, но усмехнулся тепло. Он любил тестя, давно звал его батей. Своего отца не помнил. Батя - его единственный учитель в природе, а с тех пор, как вместе ходят лесовать, - напарник и верный друг. Скоро ему восемьдесят.
Реки не видать, не видать дальнего конца лодок, приткнувшихся в берег, - туман. Проломив ногой ледяную корку, Васька набирает воды. Потом лезет в лодку, гремя бачками из-под бензина, переходит на корму, шарит под лавкой, достает сапоги тестя. Пробираясь обратно, поднимает бачки, прикидывает, сколько доливать. На руках тает иней.
Васька почти бегом возвращается в избу, расплескивая воду. Холодно. Наталья, в длинной рубахе до пят, возится у печки. Там уже стоит чайник, и на большой сковороде, брызгая жиром, шкворчит рыба. Савва Кириллыч, маленький, плотный, круглолицый, крепко сидя за столом, садит "Беломор", щуря и без того узкие глаза. Васька плюхается рядом, режет хлеб толстыми ломтями.
- Туська, накладай, - старческий, тонкий голос тестя нетерпелив.
- Погоди, дожарю.
- Не глупи, опаздываем. С сыринкой лутше. - Савва Кириллыч капает на хлеб подсолнечное масло, солит, аккуратно откусывает.
Наталья, склоняя раскрасневшееся от жары лицо, кладет каждому по жирному язю, наливает чай. Пар двумя столбиками поднимается к потолку избы. Мужчины, обжигаясь, раскрывают рыбу, молча едят, вытирая руки о грубые охотничьи штаны. Пьют чай с печеньем. Васька засовывает в карманы конфеты-тянучки, встает, прилаживает на поясе патронташ.
- Побегу, догоняй, бать.
Хлопает дверь.
Посмак-пауль еще спит. Ни ветерка. На востоке, над лесом, небо начинает понемногу светлеть. Исчезают, подрагивая, звезды. Скоро рассвет. Поевший Поль, играя, трется у ног. Васька заливает бензин, проверяет свечи "Вихря". Из темени выплывает фигура тестя. Столкнув нос, он карабкается в бударку. С третьего раза Васька заводит мотор, и вот уже шипит за бортом вода, ветер врезается в лицо. Бударка быстро движется против течения.
- Посплю маленько, - кутая голову шарфом, говорит Савва Кириллыч.
Васька кивает.
Берега почти не видно, но рукой и всем телом он чувствует, куда править, ведь это дорога его жизни. Тайга медленно выступает из тьмы. Рвется клочьями, редеет туман. Низко над темно-серой водой, свистя крыльями, проносятся утки. Начинается зорька.
Широко раскрыв глаза, Васька, не мигая, глядит вперед. В голове неясные, как этот предрассветный час, сладкие мысли. "Почему я так люблю, так люблю эту реку, лес, батю, Наталью, Нюрашу, почему не хочу уйти отсюда?". Он почти дремлет, но каким-то чутьем чувствует все повороты реки.
Васька не чистокровный мансиец - полукровка, мать у него русская. Родился он здесь, в Посмак-пауле, что на большой реке Сылве. В пауле двадцать изб. Самые большие семьи у Сабанталова Петра и Варсабова Ивана - на три дома - отцовский и старших сыновей. Остальные хозяйства в основном однодомные. Все мужчины работают в промысловой бригаде.
Савва Кириллыч Тасманов, похоронив третью жену и отдав дочь за Ваську Мамрука, съехался с ним. Сложили большую избу. Сережке Мамруку, Васькиному младшему брату, пришлось стать отдельным Домом, а до тех пор жили вместе.
Давно родился Савва Кириллыч и далеко отсюда, за триста верст, в бывшем городке Вольин-пауле, на быстрой Вогулье-реке. Он мансиец, хотя, спросишь его, почему не ханты, - толком не ответит или скажет, что в Вольин-пауле про ханты и не слыхали и языки у них разные были, а сейчас, мол, все смешалось. Сыновья Саввы Кириллыча (горе Тасманова) ушли на Большую землю, скважины бурить, предав, как он считает, тайгу и весь его древний род, что идет от самого князя Молдана.
Глухо стоит Посмак-пауль. До первого села вниз по Сылве - сто десять километров, а вверх - больше двухсот. Да и в эти-то села более или менее регулярно лишь вертолеты летают, самолетов тут пока не знают; продукты в магазины завозят по воде, на катерах.
К чему только не привыкает человек. Для Васьки, как и для любого посмаковца, промчаться на моторе в любую непогоду четыре-пять часов, что иному горожанину на работу съездить, а до места охоты, ну хотя бы сейчас, осенью, на птицу, много ближе.
Вот уже три года Васька в бригаде.
Охотничья избушка, где он проводит ползимы, - в двадцати пяти верстах от Посмак-пауля, если идти прямо через тайгу, на Оуренке-речке. Хоть и один он здесь всегда, а скучать не успевает - охота отнимает все силы и времени остается только на то, чтобы их снова набрать. Ни разу в жизни не болел Мамрук, да и от чего? Не от чистого же воздуха и любимой работы? Из тайги выходят люди чистые и духом и телом, с обостренным чувством истинного, значительного.
Жизнь у Васьки вольная, если, конечно, распоряжаться ей правильно. Есть у него, как у каждого, бумага с личным планом. Выполнил - живи в свое удовольствие. Но это не просто. Не просто, да возможно, во всяком случае, для него, для Васьки Мамрука (есть которые и не справляются). Выносливый, на удивление любознательный, с вечно смешливыми черными глазами, Васька поспевает всюду. Вот летом - с утра по грибы в ближний лес (план - 100 килограммов - собирает иногда дня за четыре), в обед за ягодой на болото дернет (этой 30 ведер за лето принести надо). Домой забежит, перекусит, Наташку с дочкой поцелует, а вечером на речку Оуренку, ближний от пауля приток Сылвы, гимги* ставить на проходную и местную рыбу. Зимой, когда все подолгу отдыхают после охоты (за собольком бегать ох как не просто), уходит Васька по Сылве искать живуны подо льдом, - помногу рыбы берет в них. С ранней осени, как обзолотит берега, каждый день ездит за глухарем по ярам и галькам - хозяйка варит птиц и закручивает мясо в трехлитровые банки на зиму. Он да Савва Кириллыч - никто и не ездит больше в Посмаке за пернатой дичью. А Васька уже не может без этого, тянет тайга, не отпускает. Так и живет меж лесом и домом на его краю. Правда, иногда задумается вдруг о дальних странах, Африке и Австралии, помечтает о Москве, Ленинграде и так представит их, будто бывал там тысячу раз. А как представит, так вспомнит, что не на всех реках в округе-то бывал, и опять веселеет душа.
* (Гимги - специальные верши.)
Есть и вехи в Васькиной жизни; вехи не вехи, а только запомнилось навсегда многое. Картинки жизни мелькают перед ним молниеносно, от года к году.
...Солнечный, резко очерченный августовский день. Ему лет пять. На поляне позади избы, в зеленой траве - серая туша огромного лося. Старый кедрач близко подступает к забору. Тянет от него сумеречным лесным духом. Сылва лежит под горой тихо, кажется, неподвижно. Вокруг лося пестро одетые взрослые, кто - не помнит. Смеются, приседают, гладят шкуру, глаза возбужденные. Васька стоит прямо у головы зверя. Рядом другие мальчики. Они молчат, смотрят, что будет. Вот один из взрослых - он ясно видит - в красной рубахе с засученными рукавами достает длинный, слегка изогнутый нож и, начиная с живота, в разных местах надрезает кожу. Потом он делает еще что-то ножом, а другие тянут за отстающие лоскуты. Постепенно появляется переливающееся на солнце красно-бело-розовое мясо. Шкуру отделяют и расстилают рядом. Взрослые курят, переговариваясь, шутят, смеются, а он глаз не может оторвать от бедного лося. Потом главный взрослый в рубахе, трепещущей, как флаг на ветру, наклоняется и проводит ножом по животу и вдоль ребер - пульсирующее серо-голубое месиво вываливается наружу. С ним долго (он не понимает зачем) возятся трое, и вдруг внутренности отделяются от тела совсем и огромным, нигде не разрезанным мешком ложатся в траву. Взрослые обступают его, хватают и волокут в сторону, к забору. Там, привлеченные необычным кислым запахом собрались коровы. Они жалобно мычат, пытаются просунуть головы сквозь жерди и понюхать "мешок". Их отгоняют криками и хворостинами. Голову отрубает несколькими ударами здоровый дядя. Маленький худой старик обрезает губы и язык, а тушу разваливают на две части. Там, внутри, что-то тоже отрезают и выкладывают в небольшие калташихи - чаны.
...Вот маленькая Наташка в ладной парочке* идет к лесу на коротеньких лыжах за уходящим большим мужчиной. Это ее отец - дядя Тасманов. Васька (ему лет десять) завистливо смотрит вслед. Его отца нет и не будет, а мамка в лес не ходит. Сам не зная, как решился, Васька бросается в сарай, надевает лыжи и бежит за девочкой. Она оборачивается, когда он наступает ей на задники, и Васька ловит ее удивленные черные неиспуганные глаза под беличьей шапочкой. "Можно с тобой?" - тихо спрашивает он. Большой мужчина в это время тоже оборачивается и смотрит на них. Потом кричит: "А ну, давай сюда!" Они подходят, и Васька, прямо глядя в глаза Наташкиного отца, говорит:
* (Парочка - маленькая парка, вид зимней одежды.)
- Дяденька Тасманов. Можно я с вами?
Глаза мужчины теплеют, и он спрашивает:
- Ты Мамрук?
Васька кивает.
- Эх ты, сирота, - шепчет в сторону мансиец и говорит громко: - За мной, след в след, и не хныкать.
Васька широко, безудержно улыбается. С благоговением глядит на ружье на плече дяденьки Тасманова, на его широкие, подбитые камусом* лыжи.
* (Камус - шкура с ног оленя или лося.)
Лес как в сказке; белые дома, шары, пирамиды, тонкий иней в воздухе, серебристо-зеленые замки; пухленькая подвижная Наташка, а затем ровный, слегка возбужденный голос ее отца:
- Соболек.
Васька приближается и видит уходящие по снегу ровными парными вмятинами следы.
- Ну, домой, домой, Наташка, и ты, паренек. Вечером шкуру покажу.
Махнув рукой, он быстро, уверенно уходит по следу. Впереди заливаются собаки. Васька с тоской смотрит ему в спину. В груди, будя что-то древнее, хорошее, прыгает сердце. Наташка ежится, прижимает варежку к носу:
- Побежали домой, Васька.
- Пошли, торопиться-то некуда, - степенно, вдруг почувствовав себя защитником, говорит он.
Вечером, засыпая, видит белый сумрак тайги с промятой в насте, кажущейся ему целой дорогой лыжней...
...Другое видение, дрожа, повисает перед ним.
Тоже заснеженный лес. Поляна. Он, одетый по-взрослому в короткую малицу, и трое мужчин - один из них опять Наташкин отец, Савва Кириллыч, - со снятыми с плеч ружьями сгрудились у берлоги. Две собаки, сопя, яростно разгребают снег огромного сугроба. Он знает: внизу спит медведь. Савва Кириллыч дает Ваське длинную палку. Он тычет ею сквозь снег в глубину и вдруг, обмерев чувствует перебежавшее по рогатине в пальцы шевеление, беспомощно оглядывается на дядю Тасманова, и быстро шепчет враз осипшим голосом:
- Ворочается.
- Отходи, - напряженно скаля желтоватые зубы, будто улыбаясь, громко говорит тот, - к дереву встань. К тебе кинется - не дрожи, стреляй метко, подсобим.
Снег бугрится, взрывается хрипом, ворчанием, рыком. На белом снегу появляется темно-коричневое тело мишки. Собаки вцепляются ему в ляжки, рвут. Коричневый бьет лапами направо и налево, снежные вихри взмывают вверх, повисают над боем, искрятся. Кровь на снегу. Страшный крик зверя. Васька, похолодев, целит, стреляет. Зверь врезается носом в снег, дергается и распластывает лапы. Уши медведя опадают - он мертв. Васька не выдерживает, тоже садится под елку, его мутит, лес вертится как живой, медленно останавливаясь. Потом выплывают глаза дяди Тасманова, гордящиеся, любящие, со слезой.

Медведь
Восемнадцати лет Васька женился на Наталье. Ей так хотелось быть нужной Ваське, нужной и любимой, - вот и все счастье. На все была готова, потому и хозяйствовать взялась с жаром. Чисто, весело, сытно было в избе. А дружба Васьки с отцом делала связь еще значительнее, крепче...
- Наташка, Нюрашка. Наташка, Нюрашка, - стуча зубами, сам того не замечая, бормочет Васька. Не спит ли он? Пошире размыкает юноша глаза. В них входит черная вода, холодный темный ветер. Почти что заснул. "Ну, и дальше можно, - вяло думает он. - Чуть-чуть еще, чуть-чуть подремать"...
...Позднее лето. Он и Наталья (седьмой месяц уж, как она носит дитя) на берегу озера, что недалеко от Прорвы, за ивняком. Весь берег в смородиновых, терпко пахнущих кустах. Ягоды перезрелые, черные, крупные, будто вишни. Не прячутся в листьях, выпирают гроздьями. Васька уже два раза отнес полные ведра в лодку. Вечереет. Наташка метрах в пятидесяти; за большим кустом мелькает ее пестрое широкое платье. И вдруг - холод по спине, груди, голове; рот Васьки открывается, но крикнуть он не может. Гигантский медведь стоит по другую от жены сторону куста. Мыча, заправляет в рот ягоды. Собирали они тихо, не переговаривались, вот и не учуял их старый зверь (обоняние небось ослабело), вышел под вечер подавить сладких горошин. Наташка, опустив руки по швам, глазами, в которых ужас, глядит на зверя. Замерла. Косицы торчком. А потом глаза закрыла и, не успел Васька моргнуть, осела, завалилась, исчезла. Он и не дернулся, дышать перестал. Мишка, страшный, когда ружья-то нет, пошел за куст, туда, где упала баба. Тогда Мамрук закричал истошно: "Аа-а-а!" Аж руки воздел. Косолапый замер, голову к нему повернул, в глазах - не поймешь что, и, опустившись на передние лапы, вперевалку к лесу. Васька бросился, подбежал, царапая лицо колючками. Дышит Наташка. Воды набрал в горсть, брызнул в лицо ей, очнулась.
- Ва-асенька-а-а! Стра-ашно-о-о, - плакала, прижимаясь. За плечи обнял Васька жену, и тихо-тихо пошли по медвежьей тропе к лодке...
Рассвело. Васька возвращается из своей глубины в только что родившееся утро, снимает онемевшие пальцы с руля, встряхивается. Поль, зевая, оглядывается на хозяина. Во взгляде вопрос: "Скоро ль?" До места километров десять.
- Щас поработаешь, - кивает Васька псу. Перехватывая руками обледеневшие борта, пробирается в нос бударки, трясет тестя за плечо. - Вставай, батя!
- А? Что? - сонно мычит тот. - Где уж?
- К Белоярью подходим.
Солнца еще нет, но оно вот-вот взойдет над кедрачом - тусклая бирюза неба там пышно расцвечена розово-охряными тонами. Сзади и спереди лодки - застывшая, будто стальная, ребристая равнина Сылвы. Режа воздух сильными крыльями, чуть сбоку лодки с криком пролетает гагары. Морозит. Савва Кириллыч опускает на уши старую вязаную, с помпоном, шапочку.
- Давай к берегу, - ворчит он, снимая с подставок двустволку, поудобнее кладет рядом мелкашку - для дальнего выстрела.
Вот и яр. Более зоркий Васька, всматриваясь, говорит:
- Есть, вишь. Черные.
Яр могуч и сурово живописен. От воды к великолепному сосновому бору круто поднимается сорокаметровая полоса почти белого галечника. Длина обрыва километров до полутора. Яр не совсем чистый. Местами, на разных высотах, виднеются на нем сползшие с гребня куски дерна с выгоревшим на солнце мхом, разлохмаченные, усатые корневища. Поэтому Савва Кириллыч не сразу видит птиц. Вопросительно смотрит на Ваську.
- Да вон же.
Старик, прищурившись, глядит по направлению его вытянутой руки. Прямо у воды, как черные изваяния, стоят два глухаря-самца. Когда до них остается метров сто, Васька глушит мотор. Лодка, продолжая скользить, быстро приближается к огромным птицам. Охотники прикладывают ружья. Один из глухарей поворачивает голову и, не выражая беспокойства, смотрит на них.
- Еще чудок, твой правый, - выдыхает старик.
Два выстрела сливаются в один. Ближний глухарь камнем падает в воду. Другой, бешено работая крыльями, начинает карабкаться вверх по склону. Он ранен.
- Добивай, - кричит Савва Кириллыч. Патрон никак не вылезает из ствола его ружья. Клацая затвором, тесть крепко ругается. Васька выцеливает подранка, стреляет. Глухарь валится на бок и затихает. Лодка тыкается носом в берег. Васька выпрыгивает на гальку, за ноги вытаскивает из реки чисто битую птицу. С нее ручьями стекает вода. Огромные крылья оттопыриваются, и длинная шея с похожей на орлиную, носатой краснобровой головой медленно качается у его ног.
- Хорош, - улыбаясь ворчит мансиец. Васька кидает ему птицу.
Это не единственные птицы, вышедшие сегодня утром на Белый яр поклевать камешки. Стреляя, Васька заметил, как подальше снялась из-под бора глухарка. Могут быть и еще. Включив мотор на малые обороты, он ведет бударку вдоль берега.
Савва Кириллыч, довольный, жадно закуривает. Васька присоединяется к нему, и два дымка изгибисто летят к расцветшему во всю ширь голубым небу. Туман сошел. Солнце холодно горит над проснувшимся лесом. А он весь в птичьем щебете. Пищат сбившиеся в осенние стайки синицы, нахально кричит кедровка, дятел упорно долбит сушину, издалека раздается тетеревиная трель. Река чуть рябит, играя отражением неба. Заметно теплеет. Растаял иней на прибрежной травке - от нее поднимается прозрачный парок. Охотники расстегивают куртки. Головы людей тоже окутаны паром. Поль растягивается на досках.
- Давай, а то разморит, - похрустывая плечами, говорит Савва Кириллыч и сдергивает шапку, подставляя ветерку редкие длинные волосы.
Спереди все громче доносится густое улюлюканье разыгрывающихся тетеревов.
- На косе, должно, - улыбаясь, задумчиво глядя на воду, говорит мансиец.
Васька отводит лодку на середину реки, дает полную мощность. Скоро Прорва.
Прорва одна на Сылве. Богаче этого места по реке не найдешь. В конце пятидесятых годов разведка обского пароходства, задумавшего открыть навигацию до ее верховьев (как раз тогда от геологов поступили первые сведения о залежах там бурого угля), обнаружила в ста километрах выше Посмак-пауля семнадцатикилометровую петлю Сылвы, между началом и концом которой находился лишь узкий двухсотметровый перешеек. Предполагая проводить по полноводной, особенно в дождливые годы, реке большие баржи (этот проект рухнул, ибо главное месторождение угля оказалось значительно южнее), руководство решило взорвать перешеек, сократив путь на семнадцать верст. Так образовалась Прорва. Баржи здесь так и не ходят, но местные жители стали активно использовать новый водный путь, почти никогда не сворачивая в саму петлю. И птица и зверь быстро поняли, где их не будут тревожить. Уже лет через десять, когда израненные края перешейка заросли травой и кустарником, на острове и по коренным берегам развелось множество всяческой живности. Прибрежные леса, сотни стариц, ручьев и озер вокруг Прорвы (так уж повелось, что Прорвой стали называть не канал, а саму излучину) превратились в нечто вроде естественного рассадника дичи.
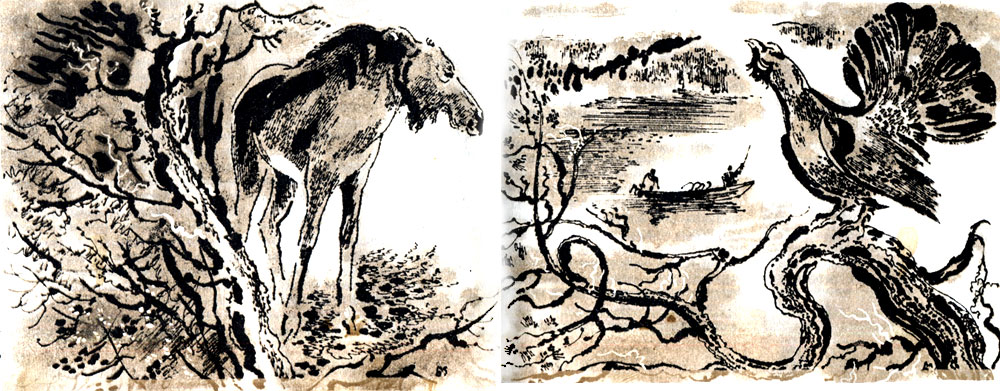
Тетерев
Двое из Посмак-пауля были чуть ли не единственными, кто регулярно заглядывал в старую петлю. И сейчас разновозрастные, но весьма похоже чувствующие компаньоны направлялись сюда.
Там, где искусственно созданная стремнина (ширина канала не превышала одной трети от ширины русла реки), вырывалась длинная и ровная песчаная коса. Над ней чуть поодаль, на незаливной террасе, стоял чудесный бор, понизу сплошь заросший ягодниками. Много таких же заиленных кос выступало и поблизости. Их и облюбовали для своих осенних сборищ и весенних токовищ доверчивые тетерева...
Сначала Васька не понял, в чем дело, а разобрав, тихо, но восхищенно вскрикнул.
- Ба-атя-я!
- Вижу, - прошелестел сквозь зубы Савва Кириллыч.
На почти белом песке большой прорвинской косы черной, плотной, переливающейся массой, испускающей многоголосую, оглушающую трель, сидели косачи. Они не дрались, как весной, не чуфыкали, не показывали белых хвостов-вееров. Просто пели от избытка чувств свою вечную песню любвеобильные птицы. Не было сомнений в том, что по ближайшим деревьям, укрывшись, расселись пестрые простодушные самочки, слушающие концерт.
Выключив мотор, охотники приближались к сборищу. Васька различал уже головы отдельных тетеревов - их было не менее двухсот. Савва Кириллыч взял ружье. Лодка мягко въехала на песок. Васька видел, как тесть прицелился, подержал ружье в плече и, чмокая губами, опустил его. До птиц было не более двадцати метров.
- Жалко. Молодые совсем, да и подраним много, - тихо сказал он.
Васька кивнул, в каком-то упоении блуждая глазами по стае. Тогда Савва Кириллыч негромко хлопнул в ладоши. С грохотом, напоминающим громовой раскат, взмыла, тревожа песок, черно-белая туча, застыла в воздухе и рассыпалась отдельными птицами, которые, то планируя, то работая крыльями, разлетелись во все стороны и расселись по обеим сторонам реки в кронах елей и сосен.
- Батя, сколько ж их тут развелось?!
- Воля. Воля, Васька, здесь большая, - отвечал Савва Кириллыч. - Простор да воля, что еще нужно живому-то. Эх, красавцы, - вздохнул он. - Черти крылатые.
Васька пересек реку, и лодка, уйдя с течения, вошла в Прорву. Первая половина петли была видна почти вся - лежала как зеркало в золотисто-зеленом обрамлении, отражая в спокойной воде прибрежный лес. С коренного берега ее, освещенные солнцем, свисали карминовые гроздья рябины, пестрели темно-оранжевые плоды шиповника. Низкий, заросший по краю тальником левый, островной, берег был еще в тени. Оттуда тянуло прохладой.
Вдалеке, на изгибе, - Васька по привычке сразу отыскал их глазами - блестели белыми яркими точками лебеди. Ни разу в жизни он не убивал лебедя, хотя возможностей было немало. Больше того, узнав, что кто-либо отправляется на Прорву, специально ходил просить, чтобы не трогали птиц. Чуть ближе из воды выступали округлые темные острова - то были уже давно собирающиеся вместе перед дальним полетом тысячные утиные стаи. Подплыть к ним невозможно - утки пугливы, поэтому охотники сосредоточили внимание на берегах и косах. В хорошие утра именно по галькам Прорвы бывали лучшие глухариные высыпки. Зимой пища этих птиц груба: иголки да почки - вот и весь рацион. Поэтому перед тем, как выпадает снег, глухари начинают вылетать из чащоб, где они проводят лето, на берега рек и ручьев - собирать мелкие камешки. Попав в желудок, галька надолго остается там, помогая перевариванию твердой хвои в зимние холода. Огромные птицы к тому же не любят плохой погоды. Если идет дождь или просто небо в тучах, они остаются в лесу. Почему всегда чрезмерно осторожная птица предпочитает вылетать на открытое место - на знает никто. Ясно только, что это древний инстинкт, своеобразное осеннее красование (весной в пасмурные утра тока тоже менее азартны). Больше того, таежный птичий царь подпускает к себе человека так близко, что хоть рукой бери.
Лодка медленно плыла в десятке метров от берега. Охотники внимательно вглядывались в него. Хотя взрослые глухари очень крупны, часто бывало так, что Васька замечал их лишь проплывая мимо. Сегодня по берегу Прорвы через каждые двести-триста метров в основном одноцветными парами (либо две копалухи*, либо два петуха) сидели у самой воды глухари. Васька, да и Савва Кириллыч, всяких лесных чудес повидавший за свои восемь десятков, находились в состоянии высшего охотничьего счастья, ощущая подсознательную гордость за это чудесное изобилие.
* (Копалуха - глухарка.)
Одни, в центре бесконечного, живого мира тайги, в это холодное, но радостное осеннее утро они наслаждались жизнью. В береговой чаще тонко свистели рябчики; беспрерывно пролетали мимо стайки уток, отпочковываясь и снова сливаясь с крупными стаями; то и дело пересекали Прорву тетерева - до десятка высматривал их разом Васька на деревьях; перекрывая все шумы, разговаривали лебединые семьи. Повсюду с печальным криком плавали, ныряли и летали над водой гагары. Два молодых гуся, чуть не сбив шапки с охотников, сели рядом с гуляющей по косе тройкой косачей - два самца, топорща по-весеннему белоснежные хвосты, обхаживали толстую пестренькую тетерку. Та жеманно крутилась между ними, иногда подбирая что-то с земли. Гуси, презрительно глядя на тетеревиные забавы, высокомерно стояли поблизости, иногда, склоняя друг к другу головы, будто шепча что-то.
Васька в этом птичьем раю ощутил вдруг в душе ясное понимание того, почему он никогда не изменит Сылве. Все это богатство его. Он за него в ответе. И это богатство есть красота, красота жизни древней, нетронутой природы. Он чувствовал, что любви и преданности к ней в нем столько, сколько ни попросишь, - прорва, как и этих великолепных птиц. Вот уже тысячи тысяч лет вылетают они на каменистые берега Сылвы морозными сентябрьскими утрами. Много перестрелял их и сам Васька - не скудеет запас. Особенно хорошо он видит это на весенних токах. Сотни глухарей собираются на одном болоте, и только он один знает десятки таких токовищ.
- Ну будет, - говорит наконец Савва Кириллыч, захлопывая крышку ящика за очередной птицей.
- Поедим на острове, бать?
- Давай на острове.
Они высаживаются на берег на границе заросшего травой топкого, покрытого слоем ила берега и высокого обрыва. Здесь, на изгибе петли, самая удаленная от Сылвы часть острова. На влажной земле масса свежих ночных следов. Кроме крупных медвежьих, лосиных и оленьих Васька различает следы лисицы и росомахи, зайца и ондатры. Весь прорвинский остров - восемь километров в длину и один в ширину, а живности тут как в хорошем зоопарке. Как бы в подтверждение Васькиных мыслей к воде метрах в трехстах выходит лосиха. Потянув носом воздух, она поворачивает голову и видит людей. Охотники и зверь смотрят друг на друга несколько секунд. Потом лосиха поворачивается и, не утолив жажды, медленно уходит в чащу.
Савва Кириллыч, захватив котомку, лезет на косогор разводить костер, а Васька, взяв толстую и короткую обструганную палку с кольцами, через которые пропущена от катушки леска с блесной (мансийский спиннинг), идет к выступающему невдалеке из воды коряжнику. У противоположного берега, перестав шуметь, величаво плавают лебеди. Вся вода в расходящихся кругах - играют чебак, подъязок, да и сам язь. Васька бросает блесну чуть правее разлапистой коряги, начинает крутить катушку и вновь усмехается от вдарившего куда-то под ложечку удовольствия. Не одна и не две, а целых шесть штук щук, выстроившись клином, устремляются за блесной. Впереди - толстая, могучая хищница. Васька видит, как она неспешно открывает пасть и беленькая железка исчезает в ней. Заглядевшись на поклевку, Васька чуть не падает с мыска в воду - так силен рывок. Все же он удерживает в руках снасть. Рыбина уходит в глубину и начинает ходить там кругами. Ваське приходится отпустить леску. Но он знает, что щука не откусит блесну на стальном поводке. Расставив ноги, он, продолжая усмехаться, вываживает хищницу. Наконец она поддается. Васька медленно подматывает лесу. Пестрое коричнево-зеленое чудище подходит к берегу. Тут Васька допускает промах. Отступая, он начинает напрямую тянуть на себя страшилище. Леска натягивается и, когда щука оказывается на камнях, лопается. Васька и щука, почувствовавшая свободу, прыгают одновременно. Васька успевает обхватить скользкое тело обеими руками, отчаянным рывком отодвигает его от воды и накрывает собой. Щука бьется, оставляя на нем слизь. Васька отбрасывает ее подальше, хватает булыжник и с силой лупит им по могучей плоской голове, меж вытаращенных щучьих глаз. Рыбина вздрагивает и затихает. Васька с некоторой даже жалостью смотрит на нее. В хищнице больше полутора метров и в обхвате она что доброе полено. Он волочит щуку к стоянке. Савва Кириллыч, спустившийся за водой, увидев добычу, с размаху хлопает зятя по спине.

Щука
- Ну, вычудил, - восхищенно смеется он.
- Я сюда, а она меня туда, - счастливо объясняет Васька. - Вытащил - она драться, ну я ее прищучил.
Напарники хохочут. Савва Кириллыч нагибается, вырезает со спины рыбины ломти мяса, чистит и обмывает их. Васька с большим трудом вынимает из щучьей пасти блесну, и оба идут обедать.
Уютно около костра. Вкусна взятая из дома холодная глухарятина и пропеченная на воткнутых вокруг костра палочках рыба. Завершает обед - чай. Полдень. Старик и юноша, разморенные едой и теплом, некоторое время сидят молча. Предчувствуя последние бесснежные деньки, нежится природа под холодноватыми лучами солнца. Даже птицы примолкли, вдоволь наклевавшись переспелых ягод.
- Ну я, это, Васьк, поеду сетки проверю, - утирая губы тыльной стороной руки, говорит старик.
- Поезжай, бать. Я дак пройдусь. На ужин хоть рябцев набью. Все-таки вкуснее.
Мужчины расстаются, условившись встретиться часа через два. Савва Кириллыч возвращается на Сылву по второй стороне петли - сетки стоят чуть выше по реке, а Васька, привязав Поля поближе к огню (молодой пес может распугать рябчиков), перекинув через плечо ружье, входит в лес. Такие леса зовут здесь урманами. Тяжело дыша, Васька продирается сквозь терпко-пахучую зелень мокрого, холодного подлеска, ухает в скрытые листвой овражки и, облепленный грязью и древесным хламом, движется дальше. Огромные замшелые колоды и поваленные, замершие в причудливом хаосе стволы преграждают путь. Измученный и вымокший, Васька протискивается между деревьями и наконец выходит в лес пореже. Половодье доходит сюда не всегда, но идти и здесь не просто. Огромные ели и кедры пропускают лишь минимум света.
Тут рай для рябчиков. Тонкий голосок птиц слышен отовсюду. Временами тарахтят крыльями перелетающие с дерева на дерево беззаботные свистуны. Отдышавшись, Васька идет к осиновому колку, откуда доносится наиболее азартный, многоголосый писк - там наверняка крупный выводок. Подойдя поближе, всматривается. Птицы расположились близко к земле, некоторые прямо на ней, копошатся, выискивают что-то. Васька видит их мелькающие крылья, головки с хохолками, но и они замечают охотника. Писк прекращается, и рябцы взмывают на ближайшие елки - видно сразу пять-шесть пестрачей. Васька стреляет дуплетом, перезаряжает и сбивает еще двух птиц. Главное теперь найти их. Бегая от дерева к дереву, он засовывает теплые тельца в карманы. Подстрелив еще трех так никуда не улетевших глупцов, юноша садится покурить на сухую колоду. Оставшиеся в живых птицы тревожной трелью выражают свое беспокойство. Умиленный их наивностью, Васька, сам не замечая того, улыбается во всю ширь смуглого, запачканного лица. Один из рябцов вдруг срывается и не находит ничего лучшего, как сесть над его головой. Пестренький, суетливый, он то показывается весь, то прижимается к ветке, удивительным образом сливаясь с ней. Васька шумно выпускает вверх табачный дым, и рябой комочек панически бросается куда-то вниз, в спасительную чащобу.
Можно возвращаться. Затушив папиросу, он начинает спуск с гряды. Из карманов его куртки топорщатся куцые рябые хвосты...
По дороге к сеткам Савва Кириллыч вспоминает свою родину, городок Вольин-пауль. Сейчас от него осталась только гора, прозванная Белой, как и многие другие яры в здешних краях. Чистой светлой галькой покрыт ее скат, а венчают яр светло-бокие сосны. По ней он сорок лет бегал на реку, с нее глядел на уральские вершины, здесь оставил дом детства. Вогулья - река манси, река плесов, река ям и курчавых порогов. Высоко по ней стоял Вольин-пауль, в двухстах верстах от Сылвы, куда Вогулья вливается полноводной любимой сестрой. Сколько поколений манси отжило в нем; тайга вокруг городка дарила людям все, что только можно пожелать. Прямо за чумами и избами бил здесь Савва Кириллыч соболей - по нескольку в день, белок - по десятку; и у каждой желудок был набит отборными кедровыми орешками (запечешь его еще в лесу, у нодьи, до корочки, и слаще конфет и колбас покажется тонкое нежное мясо с прожаренными, помягчавшими орешками). Ловил силками рябцов и куропаток не счесть сколько за сезон, караулил росомах и лисиц, загонял белых волков и песцов, капканил горностая и ондатру. Утром, спускаясь за водой, вынимал из петель, расставленных по широкому яру, глухарей и тетеревов. Хариус и таймень давались любому - и на уду, и в сетку, и на острогу. В ямах, в Устье рек Холмича и Калтмы рыба копилась в таком количестве, что вода бурлила, и лососевые, как змеи, Извивались у поверхности.
Нет больше родного пауля, сгорели избы, место травой поросло и кустом, густым и крепким. Тридцать лет назад пятьсот человек пришли к Вольин-городу по следам двух геологов, якобы нашедших у устья Польинки-речки бурый уголь (заглядывали они и в дом Тасманова).
Буровая просуществовала ровно два года и два месяца. Угля в привольинской земле не оказалось (так раньше, когда Савва Кириллыч был еще мальчиком, тоже разочарованные покинули Вогулью золотоискатели), и буровики ушли на Большую землю. Всего полтысячи людей, безразличных к природе, за два сезона уничтожили вольно живущее веками братство лесных зверей, очистили реку от рыбы, разбавили не знавшую грязи воду мазутом. Полностью исчез соболь в пятидесяти километрах в округе, погибло колоссальное стадо тайменей, стало мало лосей, утки избегали приближаться к городку. И манси ушли вниз по реке, расплылись по Сылве, спустились к Оби, сдвинулись на север, к тундре, разбрелись.
"Как же так, - вновь и вновь думает Савва Кириллыч. - Неужели все люди оттуда неумны, бессердечны? Убить и сбежать, разорить и не почувствовать стыда?". Он знает, что боль осталась в душе каждого вольинца, как и в его. Он должен вернуться, хотя бы увидеть, что там - на Белой горе, походить по лесу, половить рыбу, вспомнить и, может быть, остаться там. Мысль эта завладела им не сейчас. Вот уже несколько лет он хочет, взяв с собой Ваську, подняться по Вогулье после осеннего хода сырка, чтобы к первому снегу разбить чум на Белой горе и проверить, не родилась ли заново таежная и речная жизнь? А если родилась, что ж, тогда, тогда... но дальше думать ему было нелегко.
К месту, где были поставлены сети, он подъехал минут через сорок после того, как расстался с зятем... Радостно вытряхивал старик в лодку язей и крупную сорогу вперемешку с сырками. Вот и горбоносый изящный муксун. Посильней забурлила вода, и толстый, похожий на сазана щокур тяжело перевалился через борт.
Вдруг в плавном ходе сети что-то изменилось, а затем с суеверным ужасом Савва Кириллыч почувствовал, как кто-то невидимый и могучий, заворочался в глубине. "Вытащу, хоть будь ты сам сатана..." Темное, мелкопятнистое тело показалось под бударкой. Савву Кириллыча прошиб озноб. Рыба была так велика, что он не сразу определил ее породу. А потом понял: таймень. Бударка накренилась, черпнула воды. Из последних сил потянул, отступая к другому ее краю, Савва Кириллыч и с трудом втащил рыбину в лодку. Дрожащими пальцами он распутал сеть, оглянулся по сторонам... Внезапно его подбросило вверх, будто в лодку ударила торпеда, и в тот же миг он увидел, как длинное тело взвилось в воздух и, упершись, как ему показалось, хвостом в дно лодки, со страшным грохотом упало в реку. Савва Кириллыч, вскрикнув, покатился по рыбьим бокам, словно по льду, и свалился в воду. Вынырнув, он, чуть не плача от невыносимой досады и холода, подтягиваясь на руках и подминая под себя лодку, забрался обратно.
"Наказан, наказан, - стуча зубами лихорадочно повторял мансиец, довыбирая сеть и заводя мотор. - Дурак. Столько лет живу и рыбачу и такой дурак!"
Сокрушенный неудачей, он не стал даже отжимать одежду. Захотелось как можно быстрее увидеть Ваську.
- Что с тобой, батя? - Васька, услышав звук мотора, спустился от костра к берегу и бросился к старику.
- Что, что? Потопили меня, - бормотал Савва Кириллыч, дрожа от холода и быстро карабкаясь вверх.
- Кто-о, батя?
- Тайменюга!
Васька моментально накидал в костер сухих веток. Пламя прыгнуло к вершинам. Старик разделся, обнажив высохшее, но все еще упругое, желтоватое тело, развесил отжатую одежду на ветках около огня и, подставляя теплу то один, то другой бок, поведал свою историю. Потом задумался и стал рассказывать совсем о другом...
- Ты, Василий, почаще вспоминай, зачем живешь. Семья семьей, береги их всех, но вот, что ты должен знать, Василий, - кроме тебя здесь, на Сылве, никого больше нет, сам видишь. Я да ты остались. Она тебе поручена, говорю серьезно, Васька, и ты принимай сюда лишь тех, кто полюбит все это, остальных - и больших людей и малых - гони, гони всех, у кого сердца нет. Ты здесь хозяин, тебе и беречь. Не так много надо, чтоб лес погиб. Помни о Вольин-пауле, слышишь, Васька, помни, иначе не будет тебе Прорвы, а без нее и тебя не будет, охотник, уйдешь, бросишь все. Я знаю. Только любовь держит. Так-то, парень, слышишь, ай?
Привстав с земли, Васька с жаром ответил:
- Я люблю, батя. Этому ты меня уже научил. Я послежу. И я ни когда не уйду, веришь? Прорва будет Прорвой, батя, - голос юноши задрожал, - такой же, как нынче. Я тебе даже так скажу, только сейчас подумал об этом. Вот представь: у меня и у всех наших еды и всего вдоволь, ну, жизнь такая придет; так вот... сюда и тогда ездить буду, и по весне, и по осени - не выдержу. Надоела мне глухарятина, верно говорю, а без охоты не смогу, никак не смогу, батя, чую! - Васька решительно мотнул головой. - Для меня, это уж точно, ничего слаще нее нет, - Васька смущенно улыбнулся, встал, подошел к дремавшему псу, быстро потрепал его за ушами и, присев, что-то тихо зашептал, прижимаясь лбом к собачьему носу.
- Ну и спасибо тебе, зятек, - сказал Савва Кириллыч, а потом вдруг весело добавил: - Ох, и люба ж нам с тобой честная охота! Так я сказал, да? Честная. - Он еще ближе придвинулся к огню и заслезившимися неизвестно отчего глазами, покачиваясь, долго глядел на переливающиеся угли...
|
ПОИСК:
|
© HUNTLIB.RU, 2001-2020
При цитированиее материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://huntlib.ru/ 'Библиотека охотника'
При цитированиее материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://huntlib.ru/ 'Библиотека охотника'