
Охотничье поле (Рассказы, стихи, очерки)
Дорога идет в Чинкару (В. Чернышев)
Несколько раз мы с Николаем собирались съездить в Чинкару, но всегда нам что-нибудь мешало: то застучал поршень его мотоцикла, то обрушился редкий в наших краях ливень... И все более манила нас Чинкара, хотелось посмотреть своими глазами на необычное для степной полосы место, богатое лесом.
Отремонтирован, а заодно и покрашен ядовито-зеленой краской старенький Мотоцикл, получивший название "зеленой кобылки", и снова назначен день отъезда. Но - вот невезение! - барометр накануне с устойчивого "сухо" шагнул к коварному "переменно", и утро встало .печальное и задумчивое, точно колебалось: не натянуть ли тучки, не пролиться ли дождичком? Выкатилось из серой перины облаков солнце, осветило притихшую землю, синие на горизонте тучи, стайку белых голубей в небе, посверкало в стеклах автомашин на шоссе - и опять ушло в тучи, изредка прорывая их длинным лучом.
Сборы на охоту! Им всегда сопутствует и радость, и надежда. Еще лучше, если есть собака: она и разделит, и умножит радость сборов. Едва я взял рюкзак, как моя спаниелька Лада потеряла покой, засуетилась, запрыгала, повизгивая и заглядывая в лицо, а когда сел обедать, - легла на всякий случай на мои ноги, чтоб не ушел без нее.
Послышался стук мотоцикла, и Николай, пригибаясь под висевшими простынями и напугав соседку, развешивавшую белье, лихо развернулся около крыльца. Хлопнул крагами, подмигнул соседке - вот как у нас! - и приглушил мотор.
- Ну, гожусь я в охотники? Точно - в два часа!
Кепка у Коли перевернута козырьком назад, глаза оживлены.
- Ружье у свояка взял - он с ним сад сторожит. Себе в билет вписал, как советовали. Ну, а патроны - уж не откажите на обзаводку.
Итак, едем! Сборы, сомнения, договоры - все позади. Едем!
Я усаживаю на колени собаку, закрываю люльку жестким дерматиновым фартуком, и мотоцикл, постреливая мотором, переваливается через железнодорожный переезд.
На краю поселка Николай поворачивает ко мне лукавое лицо, подмигивает:
- К "аквариуму" завернем? Надо же у Кланьки "добро" получить на выезд...
Я отговариваю, но Коля поднимает широкие в крагах ладони, "гасит" мои возражения:
- Красненького... Чисто символически.
Из дверей нового стеклянного магазинчика течет духота, нехотя и бесполезно крутится под потолком крылатка вентилятора. Мне в люльке слышно, как Николай шутит с Клавой, двигающейся за прилавком плавно и неторопливо, - действительно, точно рыба в аквариуме.
Николай не охотник, но билет себе выправил и давно напрашивается на охоту, просит показать работу собаки. Я жду Николая и думаю о предстоящей охоте. Мне хочется, чтобы Николаи, ловкий, увлекающийся и живой человек, рыбак, голубятник и мотоциклист, полюбил охоту и стал охотником.
Наши живописные одеяния с патронташами, длинные развевающиеся уши собаки, ядовито-свежая окраска "зеленой кобылки" привлекают внимание: встречные люди, знакомые и незнакомые, кивают нам головами и смотрят вслед, что-то кричат, спрашивая, должно быть, куда.
- В Чинкару!
Мы ни разу там не были, но по рассказам знаем туда дорогу, и теперь, каждый по-своему, представляем себе этот лесхоз в степи.
Сухое и подвижное, с прищуренными на ветру глазами лицо Николая то и дело поворачивается ко мне, он шутит и что-то кричит. Мне понятно оживление Николая - ведь впервые он едет на охоту. Дурачась, он резко сворачивает к обочине, шутливо спрашивает отстранившуюся женщину:
- Где Чинкара?
Женщина неуверенно улыбается, словно ожидая подвоха, качает головой.
- Вот, видели? И она не знает Чинкары! По Чинкаре куропатки пешком отарами ходят, а она не знает!
...Да и есть ли она вообще на свете, эта сказочная Чинкара?
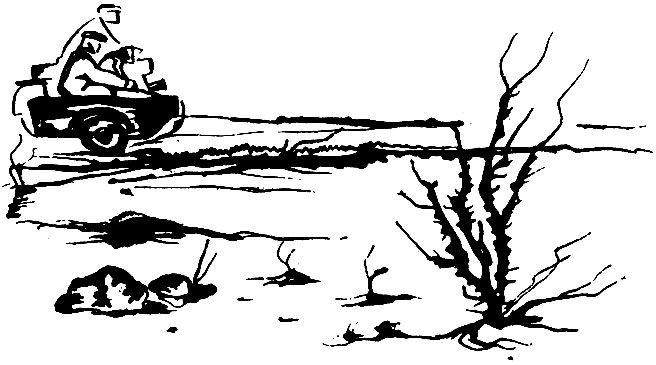
...Летит и летит под колеса серое, совсем близкое полотно асфальта. Мелькают обочь выбеленные придорожные столбики, полосы акации с цвета ми мальвы и цикория, с выпархивающими на сторону воробьями. Навстречу мчатся мотоциклы, "Москвичи", "Волги", тяжелые грузовики, обдающие запахом горелой солярки и сухого теплого зерна в кузовах-бункерах, проносятся дорожные знаки. Слева за зелеными зарослями подсолнечника, кукурузы и свекольной ботвы виднеются берега канала, и странно видеть среди огородной зелени белые надстройки ползущей по. каналу баржи или высокую трубу буксира.
По просторным степным склонам бредут тени облаков. В тени сразу блекнут краски, начинает обдавать холодком. Выскочив потом на теплый, освещенный солнцем склон, радостно видеть, как оживает все вокруг. Впереди на горизонте над желтыми жнивьями, оттеняя желтизну полей, все еще клубятся тучи, шагает на длинных нитях-ходулях реденький косой дождь. Мы мчимся через прохладную тень, затем нас заливает солнце, и вдруг откуда-то начинают лететь навстречу и вниз крупные янтарные - в лучах солнца - капли.
Слепой дождь! Большие, тяжелые и редкие капли разбиваются о мотоцикл, щелкают в фартук и освежают лицо, и на дороге беззвучно появляются круглые мокрые пятаки. Летят и летят из солнечного неба золотые капли, все гуще россыпь монет на асфальте, и вот уже начинает обдавать запахом мокрой пыли и асфальта.

Весело, так весело ехать, подставив лицо встречному ветру и редким каплям теплого дождя!
Мы с ходу проскакиваем мостик через протоку с зеленым густым камышом. Мотоцикл больно поддает мне люлькой в спину и выносит нас на пологий бугор. Нет больше падающих капель, ласково блестит омытая зелень огородов вдоль канала, и встает впереди из мокрой кукурузы расписными воротами радуга. Дорога разветвляется. Николай, сбавив скорость, спрашивает меня, начиная фразу своим высоким, лихим "ну":
- Ну, как? Направо? Или налево, к "райским" воротам? И-эх, была не была! Катим к "райским"!
Он машет клешнятой крагой с таким видом, что пропади все пропадом, и сворачивает к радуге. Но нам так и говорили, напутствуя: на развилке перед мостом держаться влево. Мы въезжаем на высокий мост. Меняется шум колес. Между толстыми ногами-укосинами моста видна вода в каменных берегах канала, непривычно-странная при взгляде сверху плывущая под мост баржа. На длинном спуске с моста Николай выключает мотор, и в наступившей тишине становится слышно, как поет в ушах ветерок, шуршат шины по асфальту с еще не просохшими пятаками и где-то сбоку под насыпью тоскливо кричит чибис.
Теперь дорога идет в степь. Нет больше камышистых проток под бетонными мостиками, нет огородной зелени, в которой нет-нет, да вспыхнет пламенем запоздалый цветок мака. Суше стал воздух. Теряясь вдали, уходят за горизонт ряды широколицых, простодушно влюбленных в солнце подсолнухов. Давно уже, сразу за мостом, кончился асфальт. Глинистая дорога в оспинах от крупных капель дождя.
Все длиннее становится наша смешная, бегущая по жнивьям тень от мотоцикла, двух охотников и собаки. Сильнее пахнет разнотравьем посвежевшая к вечеру степь. Из низин поднимается прохлада, в воздухе чувствуется близость покоя и задумчивости, которыми так очаровательны степные теплые сумерки. Лада тянется навстречу запахам, щурится, облизывает сохнущий нос. Ее волнует каждый жаворонок, вылетающий с обочины, она раздувает ноздри и нетерпеливо перебирает ногами.
Все ближе видная далеко в степи водокачка, редкие деревца и дома. Это, должно быть, Сунгутово. Значит, мы едем правильно: дорога на Чин- кару проходит через это село. Накренившись, мотоцикл выскакивает на высокую плотину, полукругом окаймляющую пруд. Стая домашних гусей, напуганная внезапным появлением "зеленой кобылки" и собаки, с гоготом срывается и летит с плотины Гуси неуклюже перебирают в воздухе широкими красными лапами, обвисшими гузнами разбивают неподвижное зеркало воды.
Мы обгоняем медленно ползущую повозку с бочкой. Роняя в пыль длинные нити слюны, лениво бредет в оглоблях длиннорогий бык, дремлет старик казах, привалившись спиной к бочке. В такт подвешенному внизу ведру у него смешно раскачиваются ноги. Из бочки нет-нет, да выплеснет, глухо всхлопнув в полупустом нутре, вода Николай останавливается, спрашивает дорогу. Старый казах недовольно открывает глаза, не спеша поднимает волочащийся по земле кнутик, не глядя и нехотя отвечает:
- Чего спрашиваешь? Сейчас все дороги идут Сунгут. Проедешь Сунгут, поедешь степь - тогда и спрашивай, какой дорога ехать.
Мы едем улицей. Приспустившееся солнце смотрится в окна домов и вспыхивает в них рыжим пожаром. Разлетающиеся по ветру длинные уши Лады вызывают удивление мальчишек и злобу сунгутовских псов. Собаки мчатся вслед за нами, задыхаясь в пыли, лая и хрипя с напускной злостью. Проводив нас до границ "своего" района, пес укладывает взъерошенный загривок и как ни в чем не бывало возвращается к дому. Сопровождаемые собачьей "эстафетой" и лаем, мы проезжаем село - ряд низеньких мазаных домиков, не имеющих ни ворот, ни заборов.
Слышны гармонь, нестройные пьяные частушки. На выезде из села встречаем свадьбу: молодежь и старики, родственники и знакомые молодых с яркими бумажными цветами в волосах и петлицах пляшут - по здешнему обычаю - прямо на дороге. Нас обступают поющие. Девушки со сбившимися косынками идут обнявшись в ряд, а перед ними, поворачиваясь на ходу, как ступа, раскинув руки, пляшет и поет частушки баба - и, видно, такая бой-баба! Рядом с ней, подняв руки и глядя, избочась, себе под ноги, топчется, приплясывая и пыля, старик. В толпе веселящихся не сразу найдешь молодых: их оставили в покое, и они, самые трезвые из всех, идут рука об руку за пляшущими. Буйное веселье гуляющих сродни настроению Николая. Поднявшись над мотоциклом как в стременах, он расспрашивает дорогу на Чинкару, шутиг с девушками и поздравляет молодых. Бойкая бабенка задорно улыбается Николаю в лицо, тянет игриво его за рукав:
- Да бросьте вы свою Чинкару! Вылазь, а то мне пары сплясать нет, наппьто мужики, вишь, как ослабли!
Откуда-то появляется поднос с графином и стаканчиком, пристает бабенка:
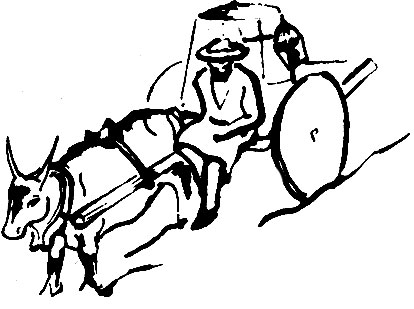
- Вот выпьете, спляшете - скажу, а нет - ищите сами вашу Чинкару!
Николай берет графин, не слезая, объявляет:
- Тогда уж - сам! Видать, своей фирмы бражка? - и наливает себе треть стаканчика.
- Эх ты, мужик! - забегает с другой стороны, подталкивает графин расходившаяся бабенка. - Лей, лей! У нас так не пьют!
- Ну, ты же видишь: нельзя, нельзя мне. Как-никак все же водитель и пассажиры на борту. А ты знаешь, сколько стоит эта собака? - Николай прищуривает глаз, щелкает языком: - Не знаешь? Вот то-то! - И, отстраняясь от атакующей, поздравляет молодых и опрокидывает стаканчик. Кто-то наливает, тянет бражку мне.
- Выпейте, раз уж такое дело, - выдохнув шумно, обращается ко мне Николай. - Вам-то можно!
Совсем как в сказке: съешь моего киселька - тогда скажу!
Из Сунгутова мы увозим частичку веселья, подаренного нам людьми, частичку того тепла, что лилось в молчаливых улыбках молодых. Примолкший было перед селом Николай оживился, рассказывает смешное. Село уже далеко позади, и постукивающая железками "кобылка" резво мчит нас в темнеющую степь.
Нет лучше времени в степи, чем на утренней заре и вечером!
Потемнели, расплылись очертания придорожных вешек, одиноких подсолнухов, столбиков, лесной недальней полосы и голенастых бастылин колючего татарника, уже неразличим цвет цикория на обочине, донников и султанов конского щавеля, и так пахуч вечерний воздух! Запах нагретой сухой земли, белых кашек, подмаренников, аромат степных гвоздик, перистых и пушистых, как опахало страусового пера... Мы пересекаем растекшиеся над землей, как туман, пахучие токи воздуха, они увлекаются мотоциклом, тянутся за нами, мешаясь, и невозможно определить, откуда и чем так упоительно пахнет.
Николай включает фару, и сразу темнеет степь, прорезанная узким и ярким снопом света. Все незаметные днем неровности дороги отбрасывают длинные тени, дорога представляется такой ухабистой, что диву даешься - как вообще по ней можно ехать? Но подъезжаем ближе, исчезают "страшные" ухабы, и мотоцикл лишь покачивается, поскрипывая амортизаторами. Столб света выхватывает из темноты то заросли бурьяна и кустики подбежавшей к дороге лесополосы, то, задираясь вверх, уходит, растворяется в бездонном небе. Неожиданно, словно выросши из-под земли, на освещенной дороге вдруг появляется земляной зайчик-тушканчик. Отталкиваясь задними ногами, балансируя вытянутым хвостом с кисточкой на конце, он мчится перед мотоциклом. Длинные стремительные прыжки его настолько непривычны, что тушканчик в свете фары представляется неземным, пришедшим из другого мира существом. Николай азартно хохочет - вот так чудо! - и прибавляет газу. "Кобылка" начинает подскакивать, поддавать люлькой в спину, в лицо больно щелкаются ночные мошки. На объезде рытвины свет убегает с дороги в степь, а когда возвращается, дорога уже пуста: так же неожиданно, как появился, тушканчик исчез.
Дорога уходит куда-то вниз, нас обдает прохладой и сыростью, и мы проезжаем, вероятно, тот мостик, после которого, если держать "правешенько и еще правешенько", как сказали в Сунгутове, можно попасть в Чинкару.
Стало совсем темно. По времени мы должны бы уже быть близко от лесхоза, но никаких его признаков нет, все такой же плоской, бесконечной представляется темная степь с редкими огнями дальних хуторов, с блуждающим на горизонте светом автомобильных фар - ни кустика, ни деревца.
В степи, как на большой воде, обманчивыми кажутся расстояния до ночных огней. Мы давно уже, выезжая на места, что повыше, видим далекий костер и норовим вывернуть к нему. Костер то становится ярче и кажется близким, то меркнет и удаляется. Дорога петляет, огонь уходит и снова возвращается, появляясь то спереди, то сбоку.
- Нет, видно, придется напрямки, - говорит Николай, когда дорога опять отворачивает в сторону от костра. - Прокрутимся, пока хозяева спать улягутся...
Мотоцикл стоит, постукивая на малом газу. В ослабшем свете клубится догнавшая нас пыль.
- Ну, как?
Я соглашаюсь. Конечно, попробуем.
Теперь мы едем прямо по целине. Николай крутит руль, осторожно нащупывая светом дорогу в степи. Под фарой неожиданно вырастают то долговязый конский щавель, то кустики бурьяна и лоха, ударяются о люльку и осыпают лицо пыльцой высокие донники, мелькают, пересекая столб света, ночные мотыльки и выпархивающие из-под самого колеса жаворонки.
- О! Видите, начинаются дебри, - радуется Николай, когда перед нами стеной встают высвеченные деревья черноклена и акаций. - А вы еще сомневались, есть ли она вообще Чинкара!
Мы объезжаем заросли, между которыми проглядывает теперь уже недальний костер. Огонь, взявшийся от подброшенного топлива, освещает конную бочку, лающую в степь собачонку, фигуру человека, всматривающегося в нашу сторону.
- Здрасте, хозяева! - весело здоровается Николай, подходя к костру. - Гостей не надо ли?
- Милости просим, милости просим! - старик сторож протягивает сухую, шершавую руку. - За арбузами? - Но, разглядев Ладу, восклицает: - Э, да тут, я вижу, охотнички!
Старик помогает вытаскивать из багажника вещи, хлопочет с ужином, рассказывает о своем житье.
- Не задумывался раньше, что такой может быть жизнь. Я ведь до пенсии учительствовал, и сейчас, бывает, стоят в ушах детские голоса, будто в школе на переменке... А теперь все лето, как дергач в степи, - один. Пока арбузы не поспеют, редко ко мне кто заглядывает. Признаться, время в заботах летит незаметно: то прополка, то поливка- я ведь землю под бахчу по договору беру, "гектарничаю". К тому же у меня тут целое хозяйство: Лапка вот со мной, караульщица моя, да куры. Взял петуха, чтобы время пел, ну и курочку, чтоб петуху повеселее было, не убежал чтоб на "улицу" к куропаткам. Вернее, Шарлатана, петуха, списали дома за озорство на бульон - внучка его Шарлатаном прозвала, - а я пожалел, взял с собой, а заодно и курочку - Шарлотту, стал быть, в компанию. Теперь петух здесь разбои чинит: сегодня взлетел на бочку - полдень пропеть - и свалил всю посуду, весь мой "сервиз", так что теперь и пить не из чего - ни стакана, ни чашки...
- Арбузы-то не воруют?
- Ну, зачем же... А я на что? Не первый год уж здесь, меня знают. Теперь в арбузах толк понимаю, сам выберу, кому нужно, чтобы человек не ошибся. Тоннами не берут, а так - всем хватит, пусть угощаются. Да и вы-ешьте, у меня еще и дыньки есть...
- Не тянет к своим, не скучно?
- Домашние меня все же навещают. Дай что скучать? Стариковское наше дело такое - погреть на солнышке кости, да уж и время подумать, как раньше говорили, "о душе". А где же о ней думать, как не здесь на ветерке? Да и благодать такая кругом - разве тут заскучаешь?
Мы еще долго сидим подле костра у разостланного плаща, вечернего нашего "стола", ведем неторопливые разговоры, из выдолбленных арбузных крышек, заменяющих нам разбитые Шарлатаном чашки, распиваем бутылочку, похваливаем арбузы. Разговоры идут о городских новостях и о погоде, о завтрашней охоте и ценах на арбузы, о собаках и урожае... Прогорает и меркнет костер, словно отплывают, далекими становятся стариковские слова, в смежающихся ресницах синие перебегающие в костре огоньки пускают стрелочки; нет-нет, да и подернутся прогоревшие сучья сизым пеплом от едва ощутимого ночного дуновения.
- Что щ, и костер готов уснуть, да и нам спать пора. - Николай поднимается, потягивается, отходит в степь, отвернувшись от нас и обратив лицо к звездам. Вскакивают собаки, кинувшиеся было за Николаем, встает и старик, прибирает не спеша остатки ужина.
Спать мы укладываемся в копне сена, сложенного возле землянки. Старик выносит одеяло, старую шинель и ситцевую красную подушку.
- Я сегодня в компанию с вами, душно в землянке. - Налаживает постель на всех; приговаривает: - Это - вот так, чтобы не кусалось сено, это - в голова, чтоб повыше... Вы как любите: посередке? с краю?
Мы ложимся один к одному, накрывшись плащом и шинелью. Засыпает, замолкает на полуслове Николай, вздыхает и бормочет что-то во сне старик; подыскивая место в ногах, шумит сеном, возится Лада. Я лежу с открытыми глазами, мне не спится.
Усеянное гроздьями мерцающих созвездий, широко раскинулось над нами небо. Как всегда в августе, обильно падают, вспыхивают светлыми росчерками звезды. Небо живет, небо дышит звездами, и я не могу отвести от него глаз, проникаясь благостным чувством от его безмолвной, торжественной красоты.
Сама собой разгорается в тлеющем костре какая-то веточка, освещает неподвижно сидящую в ногах Ладу - она тоже не спит, завороженно прислушивается к ночной степи. Потревоженная близко прошмыгнувшей мышью, пробормочет в чутком сне, ворохнется в теплой травме птица, где-то в низине настойчиво, неумолчно бьет перепел, уговаривает с детства знакомыми словами: спать пора, спать пора, спи, глазок, спи, другой... Все так же бессонно мигает на горизонте россыпь электрических огней, блуждает свет от идущих далеко за краем земли машин, слышится скрип колес на дороге и поздний негромкий разговор. Словно намаявшись за день, ночная степь устало вздыхает - тогда в сухой траве рождается слабое и теплое дуновение, доносит запахи пыльной травы, Польши и донника, дымок затухающего костра. Не сегодня - давно, кажется, было: светлые капли слепого дождя, счастливые, смущенные своим счастьем сунгутовские молодожены, растянутые, "лунные" прыжки тушканчика на залитой светом дороге... Ночь захватывает и уносит меня в движении своем над притихшей землей вместе со звуками и тихими потоками воздуха.
Уходит, убаюкав, сделав свое дело, куда-то перепел, меркнет костер, расплываются в ресницах крупные южные звезды, и приходит самый живительный, исполненный радостных охотничьих надежд - сон.
Просыпаюсь я от оглушительного хлопанья крыльев и петушиного крика: Шарлатан взлетел на бочку и бьет зорю, поет восход солнца. Петух вышагивает по бочке, замирает на мгновение около квадратного выреза и любуется своим отражением в темной воде. Просвеченный солнечными лучами, ярко горит его гребень, и видно, как пульсирует, толчками бьется в нем горячая красная кровь. Петух встряхивает гребнем и снова поет в этот радостный час всеобщего свидания с солнцем. Он входит в солнечный диск, расплавляется в нем, и кажется, - само солнце прокричало земле утреннее приветное "кукареку". Обласкав своего певца, солнце отпускает петуха и быстро идет вверх, торопясь и будто бы проверяя - все ли благополучно, сохранились ли мир и добро на земле за время его отсутствия?
Свершив утренний церемониал, Шарлатан слетает вниз, ухаживает за своей единственной дамой и зовет ее к приготовленному стариком корму. Николай откидывает отволгнувший плащ, кричит в тон петуху:
- Подъем!
Все в этот час живет радостью обновления и бодростью: сам воздух, отдохнувшая за ночь степь, освеженные рассветной росой травы, и даже холодные отпотевшие арбузы бодро крякают и трескаются от прикосновения к ним лезвия ножа. Шутит старый сторож, возбужденно весел Николай, и играют, кругами носятся вокруг землянки собаки.
Мы наскоро завтракаем и, удерживая нетерпение, спорым шагом идем через бахчу, на ходу готовим ружья.
Так вот она какая, Чинкара!
Словно выросли для нас за ночь рощи черноклена и боярышника, акаций и лоха; далеко видны живописно раскинувшиеся склоны и балки, поросшие тополями и кряжистыми дубками; между деревьями виднеются длинные кулисы кукурузы и проса, конопли и сорго, молодые древесные посадки.
Коротким челноком на кургузом своем галопчике снует, ищет, суматошится и фыркает в росной траве Лада. В радостном волнении бьется сердце - должны, должны быть в таких местах куропатки! Мы идем к балкам. Все выше поднимается солнце, обещая знойный день, пробивает лучами зеленые заросли, кисти прозрачных летучек черноклена, его резные листья.
Так азартно, так старательно ищет Лада! На краю большого куста боярышника она заметалась, теряя причуянный след, и я забываю обо всем, вижу только собаку, горячий ее поиск. Лада лезет в куст, трещит сушняком, и вдруг - совсем из-под нее - выскакивает русак и мчится, заложив уши, краем борозды. Я опускаю само собой вскинувшееся ружье, отзываю собаку: не время, не сезон стрелять сейчас зайцев. Лада резко останавливается на бегу, смотрит на меня. Одно ухо у нее забавно закинулось вверх, торчит во рту розовый кончик прикушенного языка: что, бросим это дело, хозяин?
А русак чувствует миновавшую опасность и начинает играть: он встраивает" ногами, наклоняется на бегу в одну, потом в другую сторону, как выпущенный в поле застоявшийся жеребенок-стригун. Так же как на месте любого происшествия всегда появляется любопытная сплетница, откуда-то тотчас прилетают две сороки, наперебой расспрашивают: что случилось? что такое? что за свист? почему собачий лай? Мы уходим, и еще долго они следуют, перелетая, за нами, сочиняют небылицы о появлении человека с ружьем и собакой.
Вижу; в зарослях невысокого бурьяна Лада снова берет чей-то след. Она прижимается к земле, стремительно кружит по полянке и путается в птичьих набродах. Как бы хорошо иметь такой совершенный нос, такое чутье, чтобы понять, где здесь кормились куропатки, склевывая в бурьяне семена, и где они, вытягивая бутылочки-шеи, побежали табунком, заслышав дальние наши шаги.
Наконец собака ловит невидимую ниточку запаха и ведет, скалываясь от пахучей ниточки влево-вправо, влево-вправо, словно челноком шьет строчку на дорожке птичьих следов. Лада в волнении "хахает" открытым ртом, фыркает, горячо работает обрубком хвоста, и ее сейчас ничем не остановить в ее азартном, жгучем стремлении нагнать, достать, поймать птицу как можно скорее и несмотря ни на что. Невольно завидую собаке: она уже что-то знает, а я пока ничего еще не вижу, не слышу - для меня кругом все пусто, все еще мертво. Замечаю качнувшийся впереди кустик травы - перехватывает в груди дыхание, я почти уверен, что это должно случиться вот здесь, у этого качнувшегося кустика, но мы проходим и этот кустик,и ничего нет, все дальше и дальше тянется пахучая ниточка следа.
Перед нами узкая глубокая отрожина большой балки, до краев заросшая мелким колючим терновником, кустами шиповника с красными ягодами, резным кружевом перекати-поля.
Может быть, опять уводит заяц?
На какое-то мгновение Лада останавливается на краю отрожины, словно для того, чтобы что-то обдумать, собраться с мыслями. Она действительно что-то понимает и камнем бросается с воплем в колючки терна, в кружево травы. Как брызги воды от этого камня, с оглушительным треском вырастает передо мной фейерверк куропаток!
Я не вижу ружья, не целюсь - бросаются в глаза красноватые перья веером распущенных надхвостьев, - упруго дважды толкает в плечо ружье, и я замечаю падающих, теряющих в воздухе легкие перышки куропаток.
Пока Лада выбирается из отрожины, я обегаю заросли терна и подбираю тяжелых горячих птиц.
Вот теперь - здравствуй, Чинкара! Здравствуй, полный впечатлений, удач и огорчений охотничий день!
Ко мне бежит что-то крича все время шедший поодаль Николай. На пол- пути он остепеняется, идет шагом. Подходит, улыбается, протягивает руку и уже по-охотничьи поздравляет:
- С полем!

|
ПОИСК:
|
© HUNTLIB.RU, 2001-2020
При цитированиее материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://huntlib.ru/ 'Библиотека охотника'
При цитированиее материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://huntlib.ru/ 'Библиотека охотника'