
Сны Тобола (Николай Плотников)
На рассвете задуло под шерсть, до теплого подшерстка, ветер тревогой вошел в спящее тело. Тобол поднял широкую голову, долго и строго принюхивался к невидимым тучам.
Ветер веял с севера, из ледовых пустынь. Их никто не видал, но они были там, и оттуда ветер принес первый запах осени. Закрыв глаза, Тобол втягивал ночные вести из бесконечности: движение туч, серый шум моря, мокрый шум сосен, шуршание песчинок о сруб, покачивание прелых сетей.
Дышало в тучах море, дышал дом, Тобол слушал томное дыхание коровы, ее жвачку, переступание, хруст сена, горловой клекот курицы, позвякивание колокольца. Все это было его домом, и другого он не знал никогда. Дождя не будет, но будет сиверок, и он поскулил тоненько сам себе. Поморы не пускали лаек в дом. Холка Тобола мелко дрожала и живот тоже, когда он встал и потянулся с болью и шумно встряхнулся шкурой, а потом, зевая, медленно цокая коготками, стал спускаться во двор. Он влез под крыльцо, в плотный запах куриного помета и прелой кожи. Здесь ветра не было, он вздохнул покорно и устало положил морду на лапы. Он был стар и потому покорен.
Там, за баней, теперь приглушенно, но все шире шумело и шумело, и незаметно бесшумно в темноту вошла серая высокая сука. Она грызла лосиное ребро у колодца; во сне запахи стали резче, и потому он увидел это ребро с засохшим мясом, летнюю темную траву с шариками росы, низкий дым за крышей, смешанный в елках с солнечными столбами.
Серая сука подняла голову и насторожилась, в ее карих зрачках стоял перевернутый и зеленый выгон, она лоснилась каждым чистым волоском. Он пошел как будто мимо, но к ней. Тобол во сне часто задергал лапами.
Шаги над головой согнали суку, и лето, и зелень - шаги скрипели по половицам. Стукнуло ружье о притолоку. Он вскочил резво, выбрался и, прыгая на Степана, хрипло, ликующе забрехал.
- Возьми уж его!.. - сказала Василиса.
- Куда уж его... Цыц, Тобол!
Дамка - черная, глупая, молодая - вертелась вьюном. Тобол двинул ее плечом; он стоял весь дрожа от загривка до пят и только глазами старался распознать глаза Степана.
- Цыц, Тобол! Сиди здесь! - ожесточая себя, грубо сказал Степан и замахнулся. Он поправил ружье и, не оглядываясь, пошел на зады. Дамка уже далеко за баней кружила по болоту.
Тобол стоял, пока были слышны шаги. Потом сразу стало холодно и пусто.
Бегущие тучи едва ржавели на востоке, когда оттуда, из чуждых глубин моря, медленно и весомо надавило на крыши, берег и леса тягучим механическим ревом. Это подходила "Карелия".
Тобол не бегал теперь с другими собаками: он презирал и их и это развлечение. Они обегали его стороной: они помнили его зубы, хотя теперь он был стар и губы его поседели. Он стоял в проулке у своей калитки и смотрел безразлично, как шли и бежали лайки и люди, как кричала баба: "Митьку-то не выроните, ироды!", как кошка переходила под пряслом в ботву. Она притворялась равнодушной, но боялась его, и ее хвост мелко вздрагивал от ненависти. Но теперь он не гонял кошек.
Люди шли обратно с парохода, и стало больше чужих шагов (он знал все шаги в деревне), а у тех троих были совсем чужие шаги. Эти трое поставили вещи и стали смотреть на него и говорить так много и быстро, как никто из поморов. Он не смотрел на них, но видел все.
- Смотри, какая лайчища!
- Не подходи к ней, Аня!
Они смотрели на приземистую лобастую лайку с рваным ухом и шрамами на губах. Черная с проседью, широкогрудая, она сонно смотрела мимо всех. У нее были раскосые и жесткие глаза промысловика.
- Это сука или кобель? Вот бы с ней походить! Спросим у Власовны, чья она, - придыхая говорил Младший мужчина.
- Это, должно быть, Степана, - медленно сказал Старший. - Степана Голикова.
Тобол чувствовал, что Женщина не боится, что Старший нестороже, а у Младшего в коленках страх. Младший засмеялся, и Тоболу стало неловко, и он не спеша встал и ушел не оборачиваясь.
От женских ладоней за ушами было тепло, а в ноздри дышало прелыми цветами. Он опускал нос до полу и чихал, а она смеялась и совала ему под губу розовый хрустящий хлеб.
- Ты ему все печенье скормишь, Аня.
- Для вас, дураков, стараюсь.
Тобол не понимал женщин и не любил их. Но у этой Женщины рука не могла ударить, а в голосе было постоянное согревающее журчание. Он улыбался, морща губы, а Старший тоже начинал улыбаться, глядя на них, и Тобол чувствовал неловкость, обожание и страх перед новыми ощущениями.
День за днем он разбирал этих людей, которые кормили его теперь. Он теперь и жил с ними, потому что Степан не взял его в лес, а еще потому, что он давно досыта не ел и никогда не спал в комнате. Он лежал часами под кроватью и прислушивался.
Старший был ему понятней всех - в его интонациях и походке была усталость и власть Младший был неясен - противоречив и шумлив и обладал странно изменчивыми зрачками. Тобол терпел его, потому что Младший был мужем Женщины. Но Старший говорил с ней бережней и добрей. Все они, однако, были домашними людьми, как бабы в деревне, и не знали главной силы жизни - леса.
Топили печь, и Тобол лежал совсем тихо, боясь по привычке, что его заметят и выгонят, и слушал треск березовых углей, и скрип кровати над головой, и стук - стук сердца Женщины. Через матрац, ножки кровати этот слабый стук проходил в пол и уходил в шум моря, и Тобол лежал в темноте и слушал его, а во рту стоял вкус печенья, ладоней, ее тончайших щекотных волос. Он полуспал, он охранял ее, хотя кругом были толстые стены, и когда она ворочалась, он неуверенно и чутко обмахивал хвостом половицу.
Они зашли к хозяйке Тобола и сидели на кухне в запахе свежих шанег и соленой рыбы.
- Лайка добрая была, - говорила Василиса, потому что хотела, чтобы москвичи подкормили Тобола. - Степан с ей двух медведей стрелил, первый мой мужик ишо однова. Лексей-от. Вона его карточка под часами.
- А как он их убил, то есть взял? - спрашивал, краснея, Младший.
- А кто его знае... Мяса насолили кадушку. Цельную зиму ели, ели, родне давали - душное оно будто... А вы, что ж, из Москвы, значит, приехали сюда?
Они стояли во дворе с рюкзаками и в сапогах, и от резины и масляной стали у Тобола схватывало горло.
- Не потеряйтесь там, - бодро-беспокойно говорила Аня. - Ты, Миша, присматривай за Петькой. Тобка, Тоболик-соколик, до свидания, черныш, дай лапу!
Тобол увернулся из-под ее ладоней и опять сел против Старшего. Его глаза были привязаны к ружью, они посветлели, а нос раздувался. Он не замечал Женщины, он ждал, дрожа и поскуливая.
- Пошли! - сказал Старший. Еще секунду Тобол не верил счастью, а потом заскакал и хрипло, натужно залаял вверх. Он махнул через прясло, споткнулся и от смеха Младшего побежал уже степенно вперед за бани.
- Тобол! До свидания, Тобол! - кричала Аня, но он ни разу не оглянулся. Он старался поймать ветерок от тайги. Ветер шел боком, между елями и морем, но потом сдвинулся, и тогда из глубин хвои задышало теплое болотистое дно лесов, и горло Тобола сжало еще раз. Он вспомнил все, каждую ниточку запахов, каждую зеленую полутень. Еще раз он бежал от своей старости к жизни, которой не бывает конца. Багульник щелкал его по спине, осока задевала его за уши, он торопился, оглядываясь на тех двоих, и на опушке сразу пошел в поиск, заходя справа и слева от брусничной рыбацкой тропы на озера.
Сразу за банями по выгону шла эта тропа, а потом входила в моховое болото и по гатям вилась топкими вымороченными местами до первых боровин. Гать сгнила, тонула, а местами мох уходил под травянистую топь с черной грязью "окон", и тогда охотники шли, прощупывая каждый шаг и не отмахиваясь от комаров.
Тобол пробирался медленно, хрипло дышал, шерсть на брюхе намокла, ело от комаров веки, сердце стучало в ребра.
За болотом тропа вошла в чистые боры. Здесь она стала путиком, здесь сразу рванулся из-под ног молодой выводок рябов, но Тобол даже не повернул головы. На сухом он сел и стал вылизывать пальцы.
- Ищи, Тобол!
- Они рябцов не лают, - сказал Старший. - Промысловики отучают их. Что, устал, старик?
- Чего он устал? Я ж не устал...
- Надо нам дойти до росстани на Ильматино, а там еще километра два и - Нюрское. На озере и заночуем.
Они пошли дальше, а он все лежал, но потом побрел вслед. Резина их сапог убивала запах леса, и пес полез вправо в горячую на полдне хвою, в мокрую прель выворотней с грибами и муравьиной кислотой на коре. Там издали потянуло дичными горькими перьями. Тобол заискал, зарыскал, остановился и, когда ветер прошел по макушкам, поймал, бросился, и что-то в нем само и неудержимо разорвалось хриплым лаем. Ломясь к нему через валежник, Младший окаменел от грома крыльев, выругался, перехватил ружье и выстрелил запоздало и горячо.
- Эх ты, Тобол, на какую же ты сосну лаешь?
Тобол все лаял на макушку, ерзал задом.
- Иди, иди, нет там. Вон он где сидел. Иди, слепой дурак!
Шаги людей ушли совсем, и тогда Тобол понял. Он понюхал еще и, сомневаясь, огорчаясь, понуро побрел вслед.
Озеро забелело через чащу только в сумерках. Коряги чернели, как рога, и тишина от заката лежала за ними чуть золотая, студеная. Было свежее безлюдье воды и лесов; моховой бор смотрел на них непонятно, лиловел нерушимо, сзади его медленно поджигал оранжевый месяц.
Щука ударила, и тогда Младший сказал:
- Как хорошо!
- Да. Языческие места...
Тобол полакал воду и полез от комаров в бруснику. Он слышал звук топора, гомон, звон котелка, видел огромные тени на светящемся дыме; он не подходил, хотя его звали: горели подушечки лап, от комаров раздувало морду, ныло и томило под сердцем.
- Тобол, иди ешь!
Наконец Старший нашел его в бруснике.
- Он от комара ослеп совсем. Иди под дымарь, старик. На!
Тобол понюхал хлеб с маслом и отвернулся, виновато вильнул хвостом.
- Не заболел ли он?
- Кто его знает...
Они сидели и смотрели в огонь, когда Тобол подошел и медленно лег. Они все теперь смотрели в огонь, в его синюю дрожащую глубину, где рушились и вставали розовые груды призраков. Сухой жар через глаза и кожу проходил в голову, в грудь, и кровь начинала гудеть в ушах, и, как древние воспоминания, шумели за спиной сосны. Воспоминания. О чем?
Тобол щурил жесткие усталые глаза, он дремал, он положил морду на лапы. Голубые волки без запаха и без имени бежали где-то в пространстве... Огонь освещал мускулистые корни у норы, он ограждал от страха, где бежали по лунным дорогам невесомые тени волков. Тобол не помнил их, но они все бежали из глубины времен через дыхание потухающих углей...
- Он что-то видит во сне.
- Кто знает...
- Если долго смотреть в огонь, то словно себя теряешь...
- Да. Давай спать, Петя.
- Все начинаешь понимать во всех, почти понимать, вот-вот поймешь...
- Да. Давай спать.
- Сидеть бы так долго-долго...
Ночью дождь застучал по воде, по палатке, зашуршал в соснах. Тобол проснулся, потому что перестал чуять: вода затопляла запахи. Это было очень опасно. Он привстал. Сквозь сотни понятных шумов и скрипов он пытался уловить крадущиеся шаги темноты. Угли еле бледнели, они шипели и сжимались от капель. На минуту ветер упал в лес и опять вышел к озеру, и тогда тайная опасность ударила в ноздри теплой волчьей похотью. Тобол зарычал и бросился к палатке. Люди ровно дышали во сне, а он, прижимаясь к брезенту, все рычал в земляную осеннюю темноту.
Он не понимал, что с ним, вода заливала до подшерстка, а в горле поднималась дрожь от сырости, ярости и тоски.
...Тобол видел серое упругое тело, бьющееся на мокрых березовых листьях, запах волчьей пасти, волчьей крови, разбрызганной по густому меху, запах морозной земли, пороховой гари. Пыж тлел на перегное, и он обошел его, прежде чем вцепиться под ухо переярку. Он слышал шаги Степана за собой и знал, что все кончено, когда чужая жизнь, содрогаясь, уходила под его клыками. Но и тогда он боялся, и ненависть хрипела в нем от страха, точно он только что задушил самого себя...

Так он стоял совсем один перед зашнурованным входом палатки, и дождь стегал по озеру, листьям и голове. Потом проснулся Младший и испуганно позвал:
- Тобол! Миша! Проснись-ка! Там кто-то есть!..
Когда Старший высунулся и погладил Тобола, шерсть все еще стояла щетиной, а тело вздрагивало от рычания.
Потом он смутился, потому что запаха давно уже не было. Был только дождь, рассвет и люди. Он лег под крыло палатки, но до самого утра его глаза были холодны и настороженны, а рваное ухо пыталось поймать безжалостные шаги за спиной.
- У него зад, что ли, отнимается? - сказал утром Младший.
- Простыл, наверное.
- Вот связались с калекой...
Тобол с трудом разгибал суставы, он не понимал, что стало с его ногами, но не жаловался - этого он не умел.
Редко капало с почерневшей ольхи, серое низкое утро было тепловато, но земля по- осеннему остудилась.
- Пошли, Тобол!
Они шли молча, гуськом. Тобол опустил хвост и уши, покорно и медленно он входил в новый лесной день. Когда солнце нагрело бугры под хвоей, он уловил свежие глухариные наброды и потянул вправо. Младший шел шумно и неумело, ломая палки, без нужды отгибая ветки. Потом он закашлял, и в осиновой грибной чаще забили мощные крылья.
Тобол забыл про ноги и скуку, он скулил от азарта и возмущения. Младший виновато моргал, стирая со лба давленых комаров.
- Тобол!
Но пес не подошел к нему. Спина его и косящие глаза холодно презирали, он старательно разнюхивал какую-то травку.
- Эх вы! - сказал Старший.

Они шли, весь день парило, болотами, потные затылки жгли комары. Тобол больше не искал, он плелся сзади, на перекурах ложился в мох и не хотел подниматься. Старший качал головой, а Младший бросал в собаку шишки и сердился. А потом опять шуршала, потрескивала чаща, чавкали сапоги, и надо было нести отяжелевшее тело вперед, за уходящими людьми, которые двигались куда-то к непонятной людской уели.
Только в одном месте Тобол наставил ухо и остановился. Одинокая ель рухнула когда-то и подмяла подлесок, и под черным земляным выворотнем обнажился песок с красноватым гранитным валуном. К этому валуну Тобол свернул настороженно, здесь он все должен был узнать.
До ночного дождя здесь проходил молодой волк, который нес зайца и положил его на песок, к чему-то прислушиваясь. Потом волк кого-то испугался, подхватил зайца и ушел прыжком за бурелом и дальше. Он испугался человека, который весь пропах рыбой и бензином от карбаса. Человек был с побережья. Он сидел здесь и курил махорку. Он был из их деревни - следы сапог были в тех же опилках, что возле пекарни. И, кроме того, остался слабый запах его телогрейки и ладони, которой он опирался на валун, когда вставал. С человеком была лайка. Тобол долго изучал ее след. Он удивился, что не может узнать ее, но потом понял, что это просто напуганный волком глупый щенок, и потерял к ней всякий интерес. Заячья кровь немного впиталась в песок и размылась, Тобол сморщился и лизнул это место. Нет, он не нашел того, что искал...
Когда-то Тобол видел Степана, который шел мимо этого камня с мокрой грузной шкурой на спине. Он скатал ее мездрой наружу, а ружье нес на шее. И от медвежьей шкуры и от потного Степана ветер разносил в лесу широкую просеку запаха.
Тобол еще раз обнюхал холодноватый гранит, уловил следок землеройки и устало поднял голову. Шагов людей уже давно не было слышно.
А люди в это время стояли перед плотиной у ручья и смотрели на босой след в грязи под болотными стеблями. Пятка глубоко вдавилась, между пяткой и пальцами был бугорок, а пальцы кончались остро.
- После дождя прошел, - сказал наконец Старший и расстегнул ворот.
- Смотри, вон еще след. А вон траву копал!
- Тише говори.
Они бродили, нагибаясь, потом что-то зашуршало и Младший схватился за ружье.
- Вот, черт, напугал!
Тобол, разбежавшись, замер, медленно потянулся к следу. Медленно и жестко стал вставать загривок, прижались уши, поднялась губа.
- Пойдем по следу? - спросил Младший, краснея.
Старший глянул пристально, непонятно.
Тобол вел, изредка оглядываясь: люди шли за ним старательно и напряженно. Но он не был уверен: ветра не было, запах путался, впитывался в разопревшей осоке, сзади скованно, шумно шуршали неумелые сапоги. Перед моховой колодой Тобол встал, ловя ветерок. Морда его была серьезна: "Как вы, так и я, но не более", - говорило ее выражение. Люди тоже встали.
- Пойдем? - спросил Младший.
- Я думаю, ушел он. Ушел, Тобол?
Тобол вяло почесался. "Конечно, давно ушел, - сказал бы он. - Вы бы еще погромче кричали здесь!"
Он был недоволен и собой и ими. Чего-то не хватало ему сегодня. Он удивился вялости мышц, одышке, жаре, от которой поднимались тошнота и равнодушие. Он не боялся босого следа, но понял, что все бесполезно. Но все время, пока он тащился за людьми по тропе, пока варили суп у реки, ловили хариуса и ставили палатку, - все время следы медведя воняли в нем остро и дико, как тогда, в молодости.
Потом люди сидели на бревне над водой, а он спал. Вода, почти невидимая в черноте, дробила всплески костра, журчала без конца и начала шепотом каменных колодцев. Она шла и шла, холодная и непонятная, подмывая глину. Голос воды уходил к морю, все ручьи тайги уходили к Белому морю - темные хвойные ручьи.
- Так и жизнь бежит, - сказал Старший. - А давно ль я здесь сидел?..
"Да. Уходит в море, растворяется в нем, никогда не кончается", - подумал Младший и сказал:
- Да, бежит...
- Тобол молодец, - неожиданно сказал Старший. - Посмотри, он не жалуется, седой калека, так на следу и помрет.
Он оборвал слова и нагнулся к воде, словно хотел понять ее в темноте, которая все густела и холодела. Они совсем замолчали.
...Тобол спал, и глубокие следы синели в проломанном насте. На ледяной корке оставались кровь и шерсть; задыхаясь от жары, он на бегу глотал снег и опять рвался вперед, и Мальчик - вторая лайка, серая, злая, - все норовил обежать его, а он отжимал его плечом в целину. Они гнали подранка через замерзшее болото с рогатинами сушин, через голый осинник с мертвыми розовыми листиками, через поваленный лес заснеженной гари до одинокого острова, где медведь залег. А сзади певуче и неуклонно подходили лыжи, и Тобол опять кружил вокруг проваливающегося горбатого зверя, хватал и выплевывал вонючую шерсть, прыгал, лаял и, рассчитывая каждую жилку натянутых мышц, ждал, ловчился и снова норовил рвануть. И все время подслушивал упорные свистящие лыжи, верил, что они придут, и, наконец ощутив их за спиной, взвыл от ярости и торжества. Тогда-то медведь рявкнул и поддел его и швырнул на елочку, а елочка отбросила назад на бок. Была секунда беспомощности ненавистной, отчаяния, когда губастая морда, глаз озверевший и огромный слюнявый оскал - все это нависло, развернулось и бросилось мимо, а потом яростно и жалобно взвыл Мальчик, и Тобол вскочил и увидев его розовый разодранный живот, кишки и последний глоток серого горла. В то же время очень радостно и звеняще стукнули два клубочка выстрелов, ощетинившийся медведь с трудом приподнялся на Степана, и Тобол, в последний раз и уже не бережась, вцепился зверю в штаны.
Тобол зализывал кровь под правой лопаткой, когда Степан влез подле него в снег и первый раз сказал так: "Тоболик!". Всегда неподвижное, лицо Степана было красное, мокрое, улыбчивое, серые жесткие глаза стали, как у Василисы, внимательны, и тяжелая ладонь тоже. Эта рука раньше только била или привязывала его. Но теперь Тобол впервые, на секунду бросив лизать рану, лизнул Степана в подбородок.
Потом Степан на лыжах нес его, обернув телогрейкой, а Тоболу было это больно и дико, и он всю дорогу до деревни рычал.
...Тобол жалобно заскулил и задергался всем телом во сне. Еще горел костер, и люди пили чай. Старший повернул голову. Против огня его седина казалась лиловой и морщины будто становились глубже. Он протянул руку и позвал, но было больно и холодно вставать. Что-то ныло под правой лопаткой. Тобол перегнулся и стал зализывать старый шрам.
- Смотри, у него рана открылась. Кто ж его так?
- Старая рана. Смотри, волосы давно вылезли здесь. Воспалилась
- Эх ты, бродяга, - сказал Старший. Голос у него был добрый и понимающий.
Тобол понюхал руку и лизнул ее смущенно.
- Что-то ты расклеился, старик! Ну ничего.
Тобол вздохнул и положил голову на лапы. Сквозь боль, сырость и одиночество медленно подходило тепло костра, чужая рука медленно гладила его по шерсти. Постепенно все глубже и глубже она становилась своей.
На третий день люди свернули с путика по гривам в самую глушь, в "сузёмок". Здесь даже Тобол не бывал. Ходы были тяжелые, ветровалы наломали елей, в ямах зацвела гниль. Тобол все чаще садился и вылизывал лопатку: к мясу прилипала мошка.
- Еще сдохнет по дороге, - говорил Младший сердито. - Навязали себе обузу!..
Старший ничего не говорил, он грузно, устало шел впереди.
Они проваливались, разрывали хвою, и молодой лось долго слушал их шумный путь через тайгу. Он стоял в заболоченном частом осиннике неподвижно, как серый валун, и только его большое ухо двигалось за их шагами. Ухо говорило, что это не промысловики, которые ходят по тайге неторопливо, зорко и опасно. Но когда горбатый нос приподнялся и поймал почти стоячий воздух, лось узнал, что там идет и лайка. Тогда он, неслышно разгибая осинник, стал заходить под ветерок по болоту. Он иногда останавливался, умные выпуклые глаза его смотрели в чащу, и в их агатовом зеркале ломалась зеленая тишина.
Сойка закричала на него, и лось зло прижал уши. Тобол уже услышал сойку и сошел с тропы вправо. Двигаясь не спеша, к ветерку, он пересек след копыт. Острый, свежий след был сильнее его усталости и болезни, и Тобол поскакал по нему, улавливая слабое потрескивание чьих-то движений в непрерывном шорохе леса.
От яростного лая застонало синее эхо, остановились на тропе люди, а лось, мягко и страшно развернувшись, опустил навстречу лоб, и умные глаза его стали жестокими.
Тобол прыгал к самой морде быка; взъерошенный, ляскающий, он был непонятен своей неосторожностью, но только он сам знал, что это - его последний лось и он будет бросаться и держать до конца.
Его упорство пугало, и лось, сделав ложный выпад, сразу прянул в чащу, ломая осинки, пробиваясь грудью. Гул пошел по лесу. хал в глубине вместе с лаем, и люди, бросив рюкзаки, бежали вслед за ним. Петя намного опередил Старшего и остановился, когда стал совсем задыхаться. Сердце так стучало, что мешало слушать, но когда оно успокоилось, наступила полная тишина. Лая не было, ничего не было, кроме трепета осиновых листов и комариного писка. Лес стал другим - не охотничьим, а чужим, черно-бурым, мокрым, заваленным мертвыми стволами, угрюмым от пасмурной тишины в макушках елей.
Петя проглотил слюну, он озирался напряженно. Потом очень далеко опять заколотился лай, и он радостно побежал, полез, выдираясь, оступаясь и выплевывая паутину.
Лось перешел речку выше порога и встал весь на виду в папоротниках, выжидая собаку.
Она долго не показывалась, а потом он услышал ее загнанное дыхание и увидел ее. Она тоже увидела его и сразу бросилась в воду. Но река сбила ее у самого берега, протащила по камням черной и ледяной струей, и Тобол понял, что вода стала сильнее его. Лось тоже понял это и все стоял и спокойно глядел, как барахталась, скулила и скреблась лайка, как выбралась обратно и опять сипло и ожесточенно залаяла. Но теперь в этом лае было бессилие. Лось понял и это, он мотнул головой, злобно и презрительно фыркнул и, не спеша, размашисто заскользил прочь.
Когда Петя через полчаса вышел, наконец, на речку, мокрая собака скулила на тот берег. Глаза ее потухли, уши повисли, с шерсти натекла грязная лужа.
Река была безымянна и дика. Там, где она выходила на прогалину, громоздились выворотни, ржаво алела осенняя рябина. Вода хлестала через кость коряг, монотонно шумела по валунам.
Петя ждал товарища долго - он не знал, куда идти. Но Старший все не приходил, и тогда он побрел обратно. Тобол недоумевал: Петя заворачивал куда-то левей, он сошел со старого следа и часто кричал вверх. В его наигранном "эгей!" резали слух визгливые нотки. Он не заметил, как недалеко в стороне Тобол обнюхивал оставленный на тропе рюкзак, к которому была приколота записка: "Подожди здесь. Разведи костер. М." Тобол не понимал, почему он не слышит выстрелов - одного, другого - где-то у речки, почему он идет так шумно, судорожно и криво...
Петя прошел мимо рюкзака, перелез какой-то овраг. Он шел все медленнее еще два часа, а потом долго сидел, курил и ругался шепотом. Тобол покорился и лег в мох. Он не хотел искать Старшего и тропу, он ничего теперь не хотел - его последний лось ушел. Что-то молодое, радостное, настоящее ушло от него с гулом лосиного бега, и ушло навсегда. Теперь он понял это до конца и принял это холодно и устало, как и многое другое, что неизбежно и страшно вселялось в его старое тело.
Сумерки дня перешли в сумерки вечера; осока, кора и мох пепельно поблекли. Болото . посылало озноб тумана, темнота копилась под елями. Идти стало невозможно, и Петя стал разводить костер, ножом резать хвою. Он пересчитал патроны, выложил на шапку спички, полсухаря, баночку мази, мятый "Беломор", рыболовные крючки, платок и облепленную крошками ириску. Это все что у него было. Компаса не было; белье и носки отсырели и не согревали. Он то сидел, то вскакивал, на ощупь ломал трухлявые сучки, которые только чадили, часто оборачивался в темноту. Он сидел на старой валежине, и его стало знобить, от усталости голову клонило к земле, ломило надбровья, но он боялся лечь. Он горбился, пришептывал: "Найдем завтра, вот черт... Найдем!" Ему стыдным казалось стрелять, вызывать помощь.
Жесткими раскосыми глазами Тобол следил, как человек борется со страхом, как дрожит стриженый затылок, как гаснут гнилые головешки и туман ползет через бруснику и обволакивает угли, колени, плечи.
Наконец Тобол встал и пошел искать места посуше.
С утра затянуло до самых елок, солнце было невидимо, оседал холодный пар, болото словно не просыпалось, и только капли шуршали с голых веточек.
Ватная глухота потопила выстрел о помощи, и стало еще глуше и безнадежнее вокруг
Они брели совсем наугад, потому что Петя не понимал, где море, брели по краю огромного болота до второго вечера. Петя осунулся и оборвался, он не заметил, как съел остаток сухаря и как потерял нож. Когда ноги перестали идти, он упал на мох и так полежал немножко, спрятав лицо в руки. Он знал, что найти его здесь невозможно.
Тобол подошел и понюхал лопатки человека, которого он никогда не мог понять. Вот он лежит бесполезно и не чует дичи. Тобол заскулил и ткнул его носом под мышку.
Человек сел. У него было немужское мокрое лицо и зажмуренные глаза
- Да, Тобол, да...
Петя открыл глаза и увидел на облетевшей осине серого крупного рябчика. Рябчик смотрел на них. Прикусив губу, Петя медленно поднимал дрожащие стволы, остановил их против пестрой тугой грудки, и грохот двойного выстрела разорвал напряжение тишины. Тобол рванулся к осине, затормозил, долго слухом следил за утихающим жужжанием крыльев. Только одно рябое перышко, кружась, спланировало на мох. Где-то в глубине ельника рябчик ткнулся - сел, но Тобол не побежал туда: это было ни к чему.
- Я же так целился! -сказал человек тонким, отчаянным голосом. - Я не мог не попасть! Тобол!
Тобол не повернул головы. Он понюхал перышко, притворно зевнул и пошел искать воду.
Вода была под кочкой, и он лакал ее, когда поднялся предночной ветер. Ветер пришел с севера, лес заговорил, и Тобол поднял морду. Он уловил что-то далекое и знакомое в этом чужом гиблом болоте, но это знакомое тоже было гиблым и тяжелым, и он все сильнее чуял это, медленно двигаясь вперед.
Огромная дуплистая осина лежала поперек промоины, и Тобол долго вынюхивал ее корень. Сантиметр за сантиметром он двигался вдоль ствола в гущу сухих папоротников, пока не остановился, дрожа до кончика хвоста.
Там, в папоротниках, под слоем листьев и трухи, стоял тот знакомый и страшный запах, которому не было имени, потому что это был запах давно умершего и любимого человека.
Зеленые медные гильзы, горькое масло ружья, гнилое сукно, а главное - знакомый, как удар памяти, развалившийся валенок - все это давно было здесь и где-то глубоко внутри Тобола. Он поднял шерсть и все пятился, пока не вылез из ямы. Он сидел и вспоминал, ждал чего-то, втягивал воздух, пока тоска не сжала его шею спазмом, и в горле поднялось утробное короткое завывание. Он сам испугался ответного эха, поджал хвост и поплелся на свет костра.
Петя радовался ему и гладил его бестолково, но Тобол не замечал этого, потому что он был не здесь. Он лег головой на север, к ветру из ночи, доносившему до него старую историю гибели человека, за пазухой которого он грелся еще щенком.
Кто-то стонал во сне: "Тобол! Тобод!" Это был не Петин голос, это доходило с северным ветром из папоротников в яме, и Тобол, молодой и сильный, неутомимо бежал по снегу на этот хриплый родной голос.
Лыжня вела через огромную поваленную осину и вниз, а в яме был голос хозяина. Лицо Алеши-полесовщика, толстогубое и рыжеватое, было облеплено снегом и дергалось от боли в пропоротом боку и свернутой ступне. Алеша боялся двигаться - тогда кровь от засевшего сучка текла сильнее, но Тобол чуял и кровь и боль в его голосе, он скулил, вертелся, а потом залаял от бессилия понять, что случилось.
- Домой, Тобол, домой! Василиса, "Тоболик, домой, приведи, Тоболик...
Тобол не понимал и не шел.

Рис. А. Семенова
Ночью повалил снег, он лежал на сброшенной шапке хозяина, на осине, на бурых папоротниках толстым теплым слоем. Тобол раскапывал его, когда слышал стон, и не уходил. Целый день Алеша говорил что-то сам с собой слабым незнакомым голосом, а под вечер замолчал. Тобол вслушивался в шелест его дыхания под снегом, дремал, но когда колючие звезды проморозили темноту до инея в ресницах, он с рычанием вскочил и ощетинил загривок. Что-то подошло из темноты, немое и душное, и встало у самого тела. Там, в яме, Алеша двинул руками и стих, и теперь там было только "оно", неизбежное и равнодушное, более мертвое, чем камни в земле.
Так Тобол узнал о смерти человека, великой и странной, иной, чем умирание растений, белок и птиц.

Рис. А. Волошина
Всю ночь он выл от одиночества и растерянности, он был тогда молод и привязчив, А на рассвете он прибежал в деревню, и голосила, бегала по соседям Василиса, и мужики надевали лыжи, но опять закрутила поземка с Океана, и Алешу не нашли. Тобол знал, где тело, но не пошел - это было только "оно" теперь, а не Алеша, и он боялся теперь самого этого места.
...Пес открыл глаза и потянул утренний ветер. Вкус свежего заморозка прояснил голову, все было бело от инея, березовый лист крошился под лапами. Но сквозь ясность опять пробивалось "оно", оттуда, где гнила в овраге поваленная осина. Там жила беда, она подходила к ним, стояла над слабым затылком спящего Пети. От беды надо уходить. Уходить домой, в тепло коровьего хлева, Василисиного говора, в шорохи пыльной соломы под крыльцом.
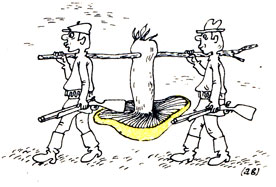
Рис. А. Волошина
Тобол ткнул спящего, залаял от нетерпения, отбежал и остановился, ожидая. Уши его стояли, глаза говоряще блестели.
Петя подымался через силу, пальцы не разгибались от холода, голову, грудь, горло завалило жухлой сыростью. Но он все-таки понял наконец:
- Домой, Тобол? Да?
Тобол отбежал и еще и опять позвал, нос его лоснился, он высунул язык.
- А где же море, Тобол? Солнца же нет...
Но Тобол знал, где море и солнце - оно дышало в тучах горьковатым теплом осенних капель, оно всегда было в нем самом.

Рис. А. Волошина
Теперь Петя брел, запинаясь, только за собакой, которую вел напрямик к дому непонятный инстинкт пространства.
Тобол, не думая, выбирал высокие сосновые места, он издали чуял скрытую сырость низин. Солнца не было, но потеплело, и на прогалинах подтаял ледок заморозка.
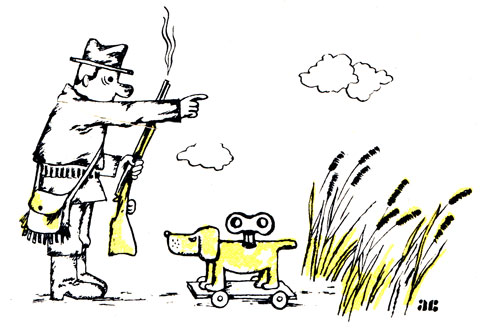
Рис. А. Волошина
Петя шагал безразлично, с трудом ставя обмороженные ноги. Затвердевшая земля скрипела под сапогами, звонко лопались обледеневшие сучки, а он все шагал, боясь остановиться совсем. У него давно и монотонно шумело в ушах, и внезапно он увидел за соснами нечто широкое, серо-голубое и понял, что слышит - шум моря. Он хотел закричать от радости, но не смог - так сжало горло. Все лицо его дергалось и смеялось, мелкие слезинки сбегали по носу. Колени стали подламываться, и он сел.
А Тобол уже не ждал. Последним рывком он продрался сквозь можжевельник и встал, жмурясь, прижав уши. Гулом и силой хлынуло в голову огромное пространство неба и воды. Северный свет, глубинно-зеленый, как в лунном камне, стоял везде: и в сердце и в облаках - и медленно дышал навстречу по укатанному песку. К белой черте прилива выходили одинокие ели - последние форпосты лесов. Они стояли, как черные, обрубленные штормами флаги, железистые от соли и гордости.
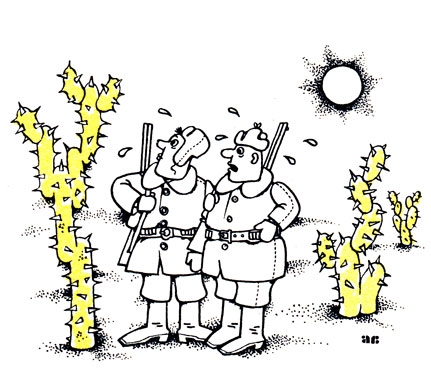
Рис. А. Волошина
Ветер приподнял шерсть; он наполнял губы горькой могучей влажностью, йодом вянущих водорослей, солью сохнущего плавника. Ветер нес студеный запах искристых туч, истонченной пены, он щемил зрачки, ноздри и горло. И Тобол, застыв, подставлял ветру каждый волосок своей широколобой головы.
На твердом песке у самой воды бродила чайка, слишком белая в этой серой и перламутровой тишине. Прямо к ней от края неба катилась и катилась мерцающая зыбь и выплескивалась на берег безостановочно, сонно и сурово. Над этой зыбью все светлело пятно, и проступило наконец в тумане солнце, и березы в черноте хвои вспыхнули ему навстречу, а Тобол почуял, как еще резче запахло мокрым камнем и оттаявшим инеем осени. Стало вдруг четко и далеко видно все лесное побережье с жилами увялой листвы, с одинокой тележной колеей к старой рыбацкой тоне.

Рис. А. Волошина
Так здесь еще раз встретились море и леса.
Только теперь Тобол вздохнул облегченно, устало и грузно лег головой к свету на мелкий ракушечник у корней сосны. Теперь водяной гул доходил через берег, через голову и грудь в самую глубину его памяти. В этой гулкой памяти все медленней и весомей стучало его натруженное сердце. Он ощутил его впервые, но не удивился, потому что так должно было быть. Очень близко на песке он видел раскрошенные раковины, палые иглы и сухие шишки, след солнечной пены, и перо чайки, и свои прежние осыпающиеся с краев следы.
Он почувствовал, что все это и он сам - одно, потому что опять был щенком, теплым, полуслепым, с молочно-сладковатым запахом голого брюха, которым он прижимался к сухой земле, отдающей ему бесконечное биение моря.

Рис. А. Волошина
Алеша принес его сюда вместе с братьями, завернув в полушубок, и положил на пригретом месте, пока чинил карбас, а щенки расползлись, тыкаясь, нюхая и ничего не опасаясь.
Был третий час дня, стояла, как говорят поморы, "кроткая вода" - глубокое матовое затишье между приливом и отливом...
Седая, изрубленная морда Тобола задергалась, и он заскулил еле слышно: он вдохнул запах матери, теперь такой же живой и понятный, как мягкое морское тепло. Он видел, как она встала и спокойно пошла к Алеше, к морю, и Тобол попозл за ней, а она оглянулась, подождала и стала медленно сливаться с молочно-зеленоватой зыбью, идущей от края неба к краю лесов. Он еще увидел ее карие умные глаза, просвеченную бахрому шерсти, а потом в полусвете остался только запах материнских сосков, испаряющейся соли, - зернистых капель, и шум убылой воды - всегда замирающий шум - понес его в меркнущие провалы забытья
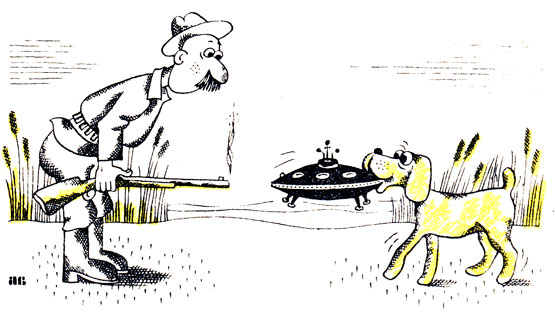
Рис. А. Волошина
Он лежал теперь до конца успокоенный, откинув голову с остывающим рваным ухом, лежал совершенно неподвижно, а чайка все ходила по отливу и посматривала круглым оранжевым глазом, и вода журчала, стекая с голубой обкатанной гальки.
|
ПОИСК:
|
© HUNTLIB.RU, 2001-2020
При цитированиее материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://huntlib.ru/ 'Библиотека охотника'
При цитированиее материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://huntlib.ru/ 'Библиотека охотника'